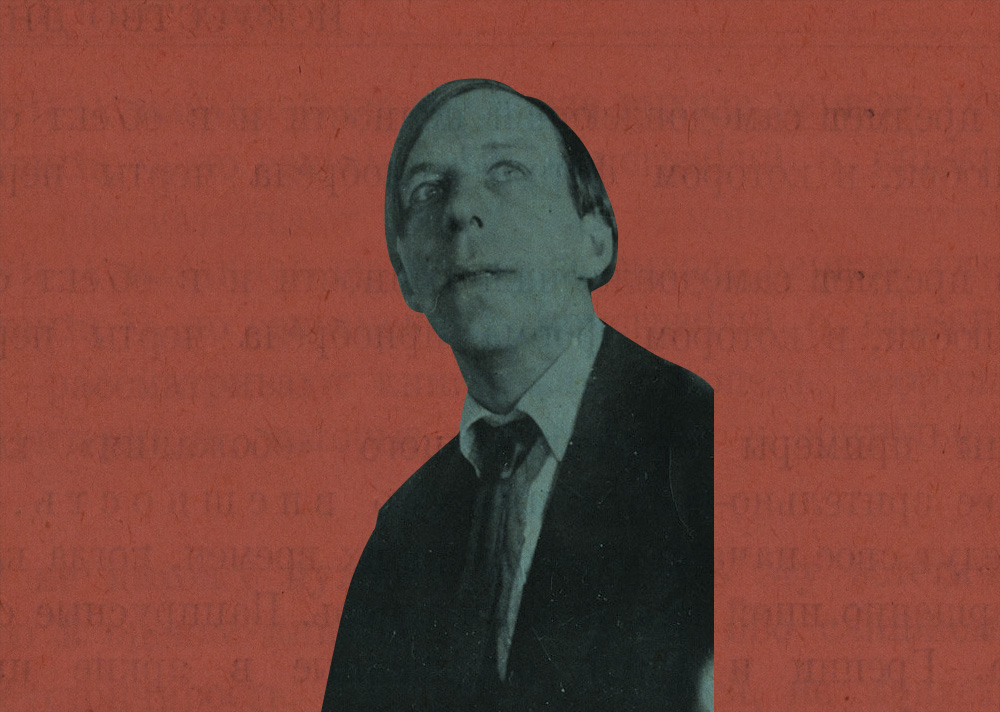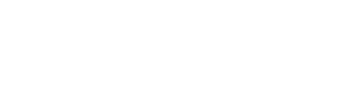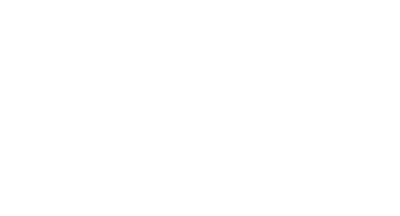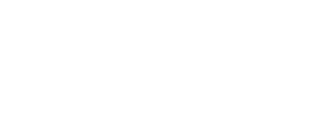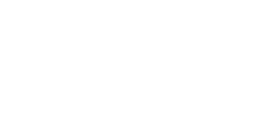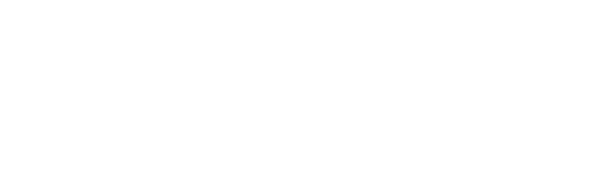Москва — Пекин
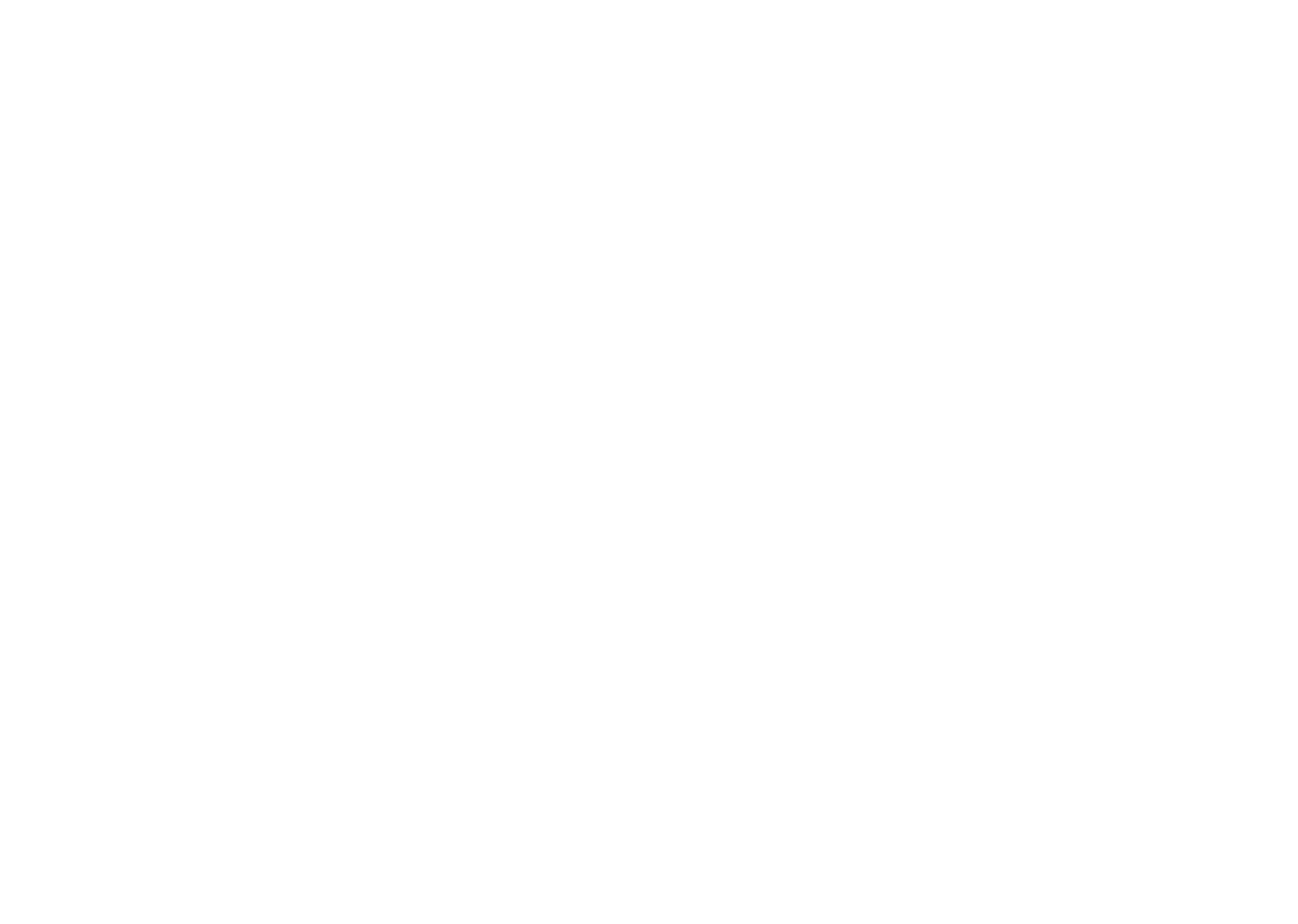
Так сказал Ося
— «Ты едешь в Пекин. Ты должен написать путевые заметки. Но чтоб они не были заметками для себя. Нет, они должны иметь общественное значение. Сделай установку по НОТ и зорким хозяйским глазом фиксируй, что увидишь. Прояви наблюдательность. Пусть ни одна мелочь не ускользнет. Ты в вагоне — кодачь каждый штрих и разговор. Ты на станции — все отметь вплоть до афиш смытых дождем».
Я понял. Я буду кодачить. Если говорит Ося — ему трудно возразить, у него шпага логики и утилитаризм. Я пошел в магазин и купил крепкий блокнот формата печной заслонки. Так учит ЦИТ. А еще учит, что у человека должны быть часы. Увы, часов у меня нет. Не потому ли так позорно обманут мною журнал «Время», ждавший моего рассказа к 15-му февраля, в то время как я уехал 14-го...
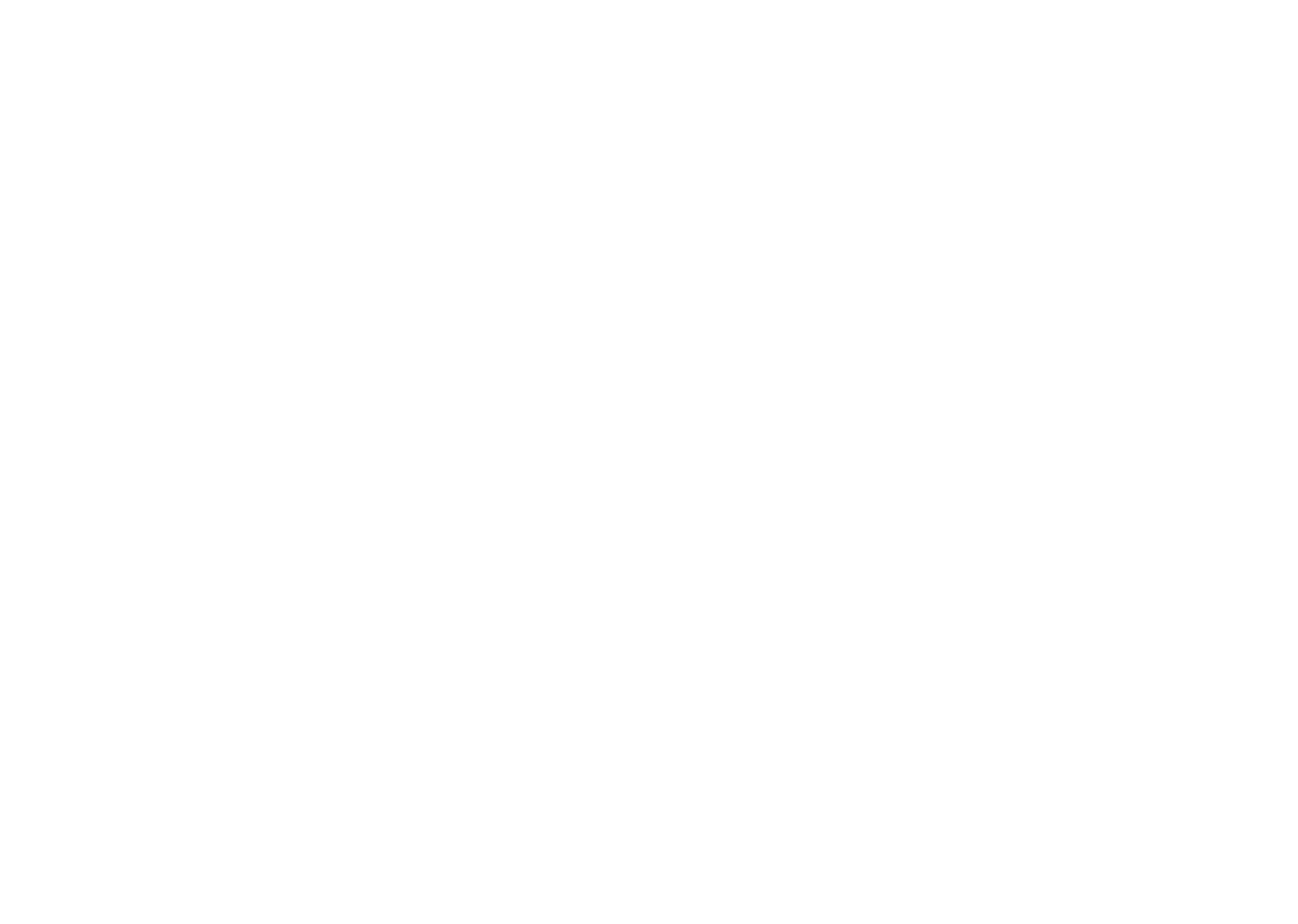
Часы
Я возился над чемоданом. За мной возник человек. Он протянул мне плитку шоколаду в матерчатой обложке за пятью сургучными печатями и сказал — поднеся свой висок к моему конспиративно — «ценности». Я долго потом думал, какие, и, наконец, решил, судя по формату — вероятно червонцы, у которых на два пальца бумаги в длину сострижено. А потом человек протянул вещицу и сказал: «передайте товарищу Ша»...
Это были часы. Потом человек ушел, а часы я надел себе на руку. Часы были обернуты бумажным пояском, но иногда заглядывая под него, я ухитрялся узнать время. Так я стал эльвистом.
В Чите товарищ Ша... за часами не пришел. Их у меня взял подозрительный человек, остановивший моего извозчика в 4 часа утра. Я думал — он будет грабить и полез за бумажником. Он потребовал часы. Я отдал: чужие же. Он сказал, что отдаст товарищу Ша... Я поверил.
В Чите товарищ Ша... за часами не пришел. Их у меня взял подозрительный человек, остановивший моего извозчика в 4 часа утра. Я думал — он будет грабить и полез за бумажником. Он потребовал часы. Я отдал: чужие же. Он сказал, что отдаст товарищу Ша... Я поверил.
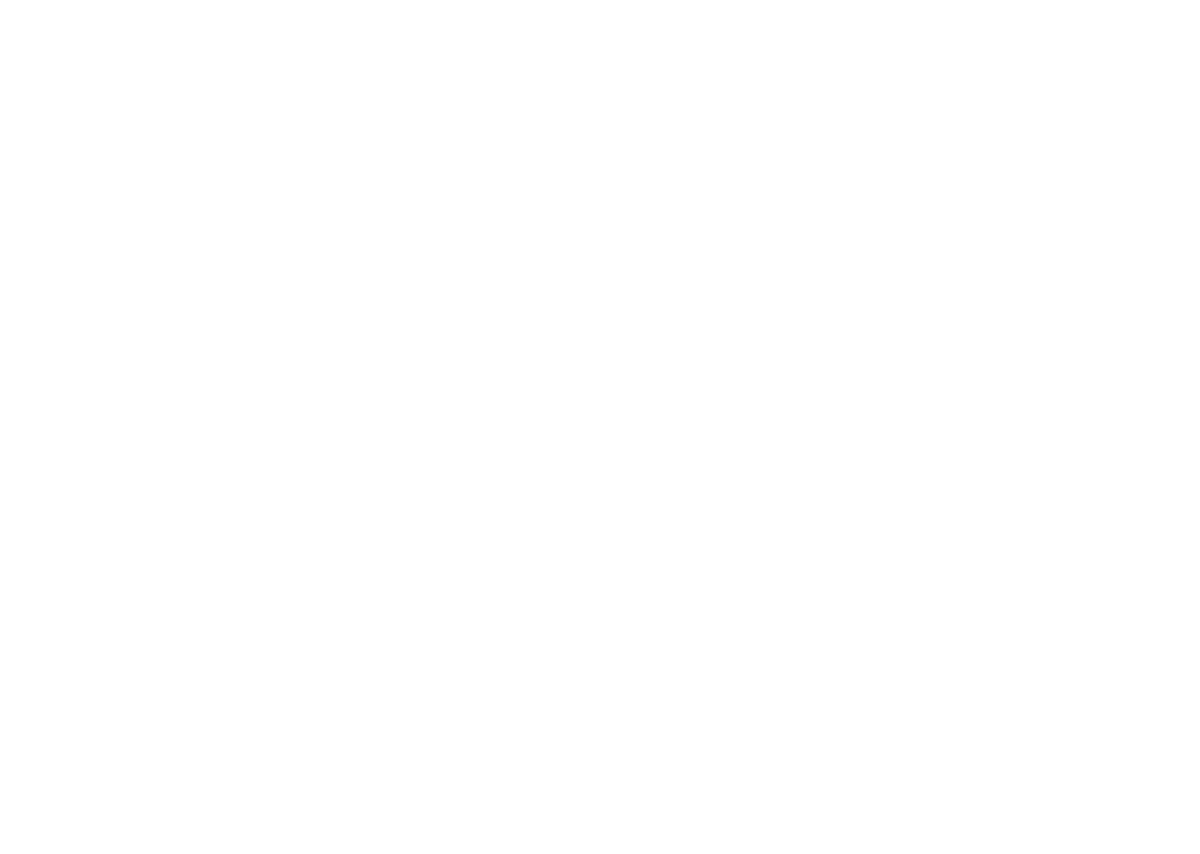
2 ч. 55 м.
Целуйтесь в это время. Через 6 минут будет поздно.
В минуту можно выработать 12 поцелуев о 5 чмоков каждый.
В минуту можно выработать 12 поцелуев о 5 чмоков каждый.
При больших (свыше роты) скоплениях провожающих можно организовать массовое производство до 60 чмок-поцелуев в минуту.
Целуйтесь загодя.
НОТ говорит — вообще не целуйтесь.
Целуйтесь загодя.
НОТ говорит — вообще не целуйтесь.
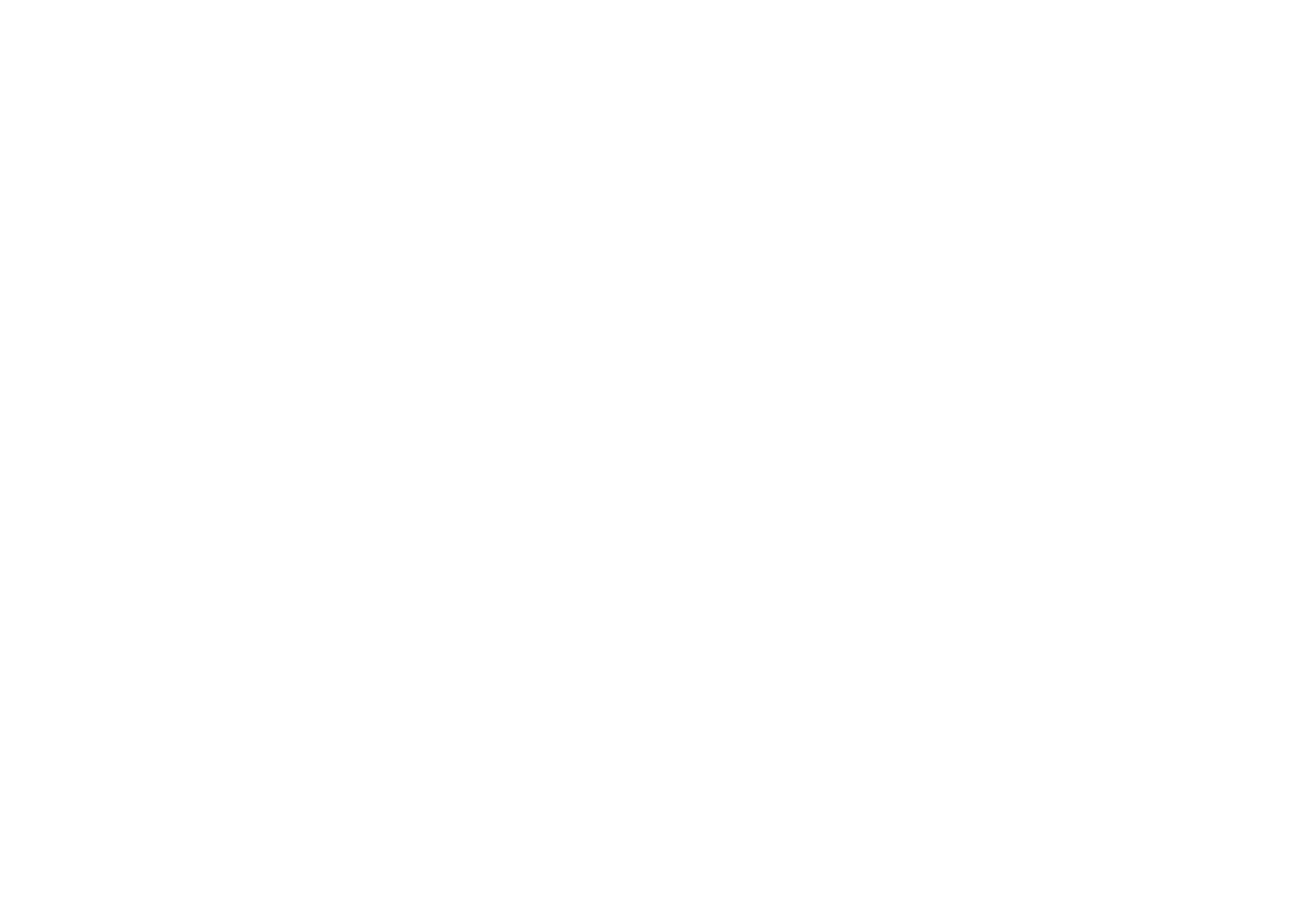
Махай
Звонок. Свисток. Скок на площадку. Оттуда остервенелые люди. Между вами — чемодан. Матербранка.
Наконец вы оборачиваетесь и машете, чем машете — неважно, ибо уже машете водокачке.
Не высовывайтесь глядя в свое прошлое.
Пройдите в купэ. Вы начали новую жизнь — товаро-пассажирскую.
Не высовывайтесь глядя в свое прошлое.
Пройдите в купэ. Вы начали новую жизнь — товаро-пассажирскую.
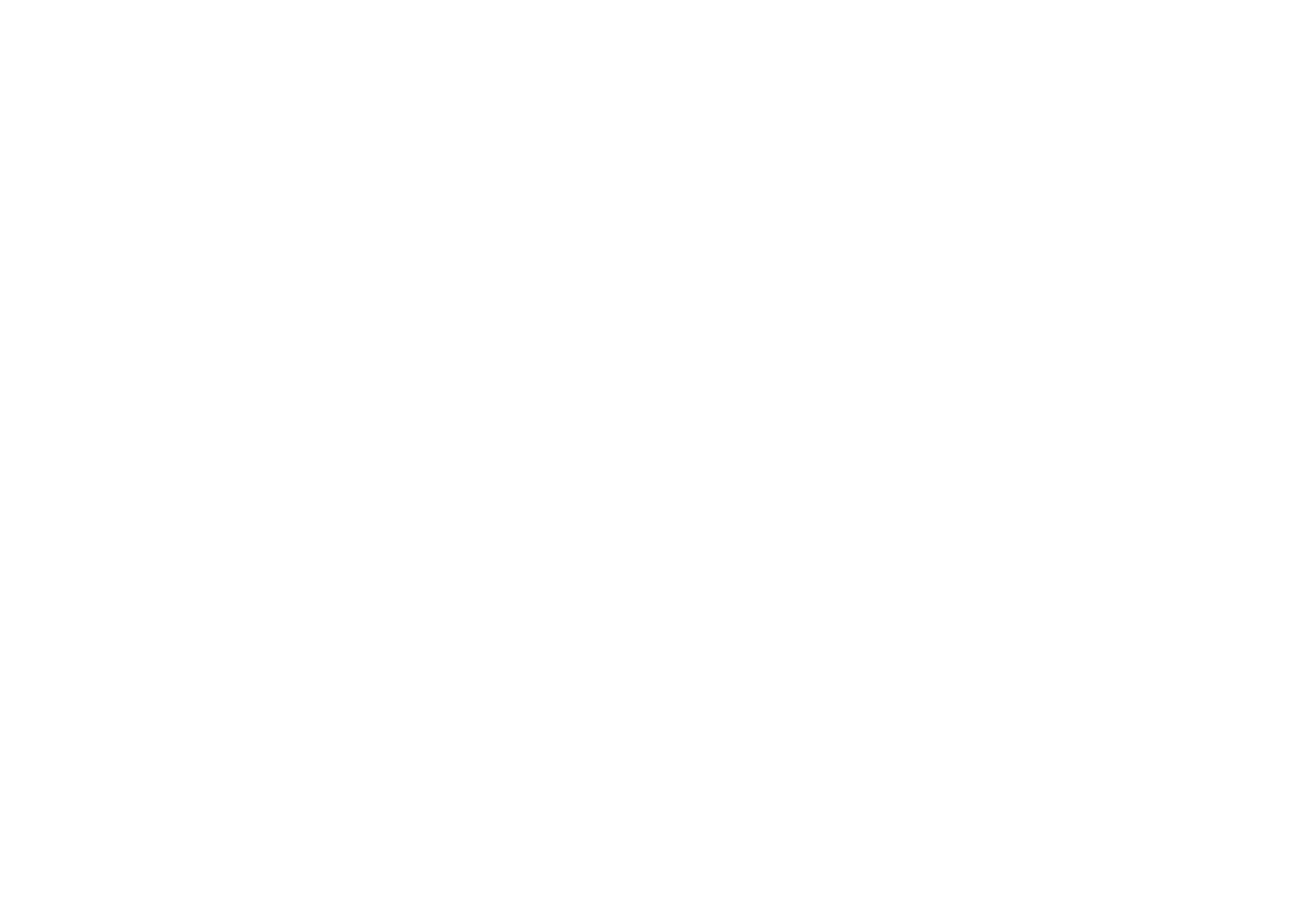
Купэ
Силой вещей я ехал в международном вагоне. В первый раз в жизни. Чтобы помочь еще не ездившим, но поедущим, скажу подробно. Международное купэ поражает роскошью — оно сделано из войлочного бархата, палисандровой березы и чистопробной червонной меди. У него есть три культурных удобства: во-первых — постели не параллельны друг-другу, а перпендикулярны, а поэтому влезть на верхнюю постель очень легко, если у вашего соседа достаточно твердый живот. (Старожилы говорят, будто бы когда-то в купэ были лесенки. Надо думать эти лесенки целиком израсходованы Пролеткультом в «Москве слышишь».) Второе удобство — пепельница, не вертушка в стене, а как у приличных людей, тяжелая медная настольная.
В ней помещается один барельеф и три окурка. Если вы курите на верхней постели, то окурки надо спускать в промежуток между стеной и матрацем, ибо мусорить в купэ — ниже надклассового достоинства пассажира международного вагона. Примечание по методу НОТ — до спуска окурка, в него надо наслюнить, во избежание пожара. Еще можно класть окурки на разные карнизы, только они на них плохо держатся. Пепел поступает в ботинки соседа. Третье удобство — умывальная закута с окнами как в соборе Парижской богоматери, находящаяся при купэ. Никуда не надо ходить, вода под руками (и под ногами иногда), гигиена. Наша умывалка была всю дорогу закрыта. Говорят — вода замерзла. Неважно. Самое сознание, что умывалка рядом, делает тебя чище стерильного бинта. А четвертое удобство:
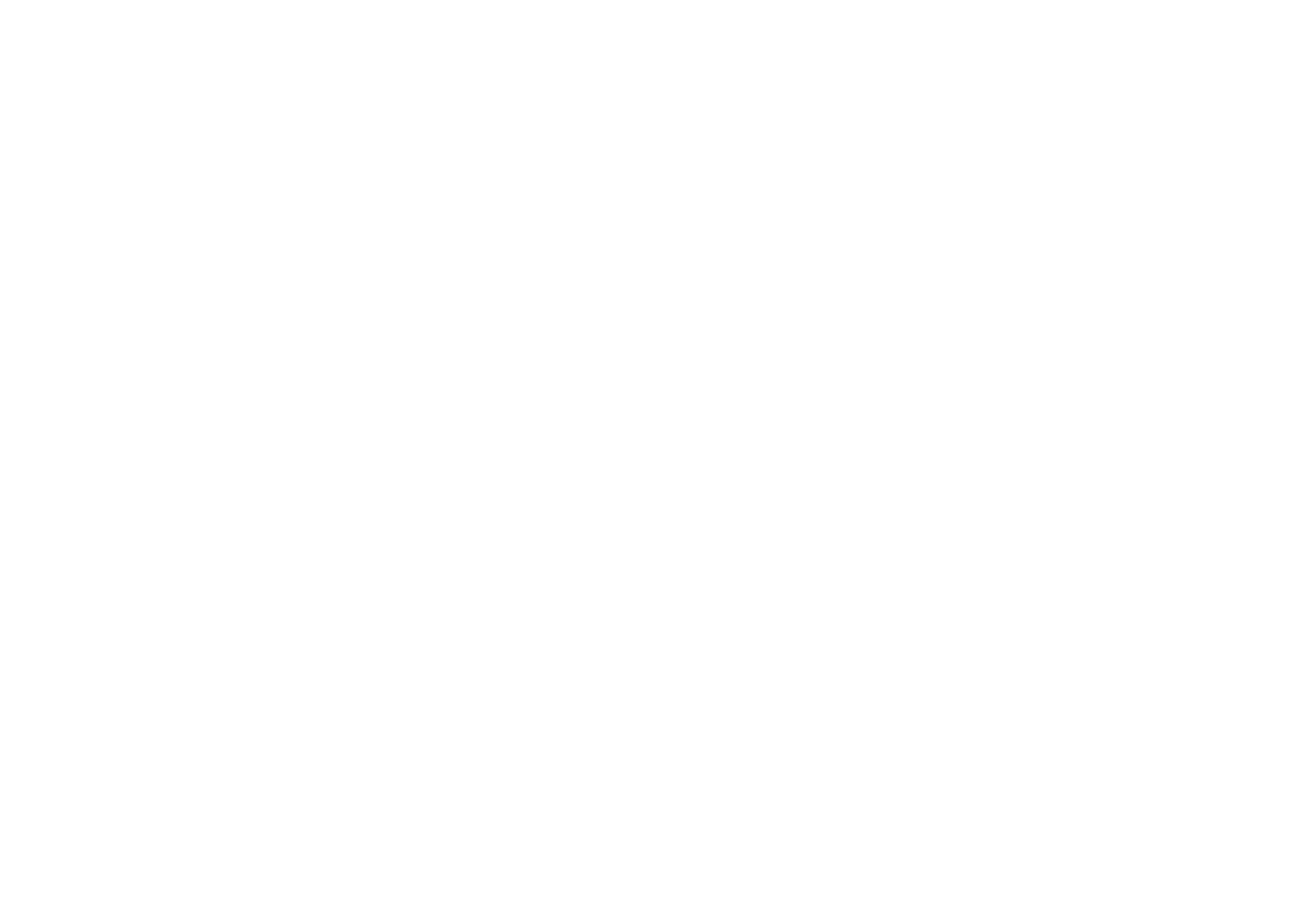
Проводник
Скорее всего это даже не удобство, а достопримечательность вагона. Чаще всего он в состоянии деликатного раздумья, глядит на каплющий в корридоре потолок и размышляет вслух: «Не должно бы капать. И почему это каплет, никак не поймешь». Проводник вагону человек глубоко посторонний и меланхолик. Название станций он знает наизусть. Один из пассажиров, дачник, погнул себе язык, запоминая название станции, сообщенное ему проводником «актоеезнает», умиляясь чисто-итальянскому скоплению гласных в этом полуазиатском имени.
Проводник-лингвист. Для каждого иностранца у него есть теплое слово — для немца «бэтмахен», для англичанина «годинер», для француза «сортир эвона». А для русского проще: «Ежели вы гражданин мусорить будете, то я вас тремя рублями оштрафовать буду должон».
Справка НОТ — проводник отпускает постели. Стоимость на трое суток — 1 р. 50 к. золотом. Кому дорого, берите с собой, но уже на уважение не рассчитывайте.
Справка НОТ — проводник отпускает постели. Стоимость на трое суток — 1 р. 50 к. золотом. Кому дорого, берите с собой, но уже на уважение не рассчитывайте.
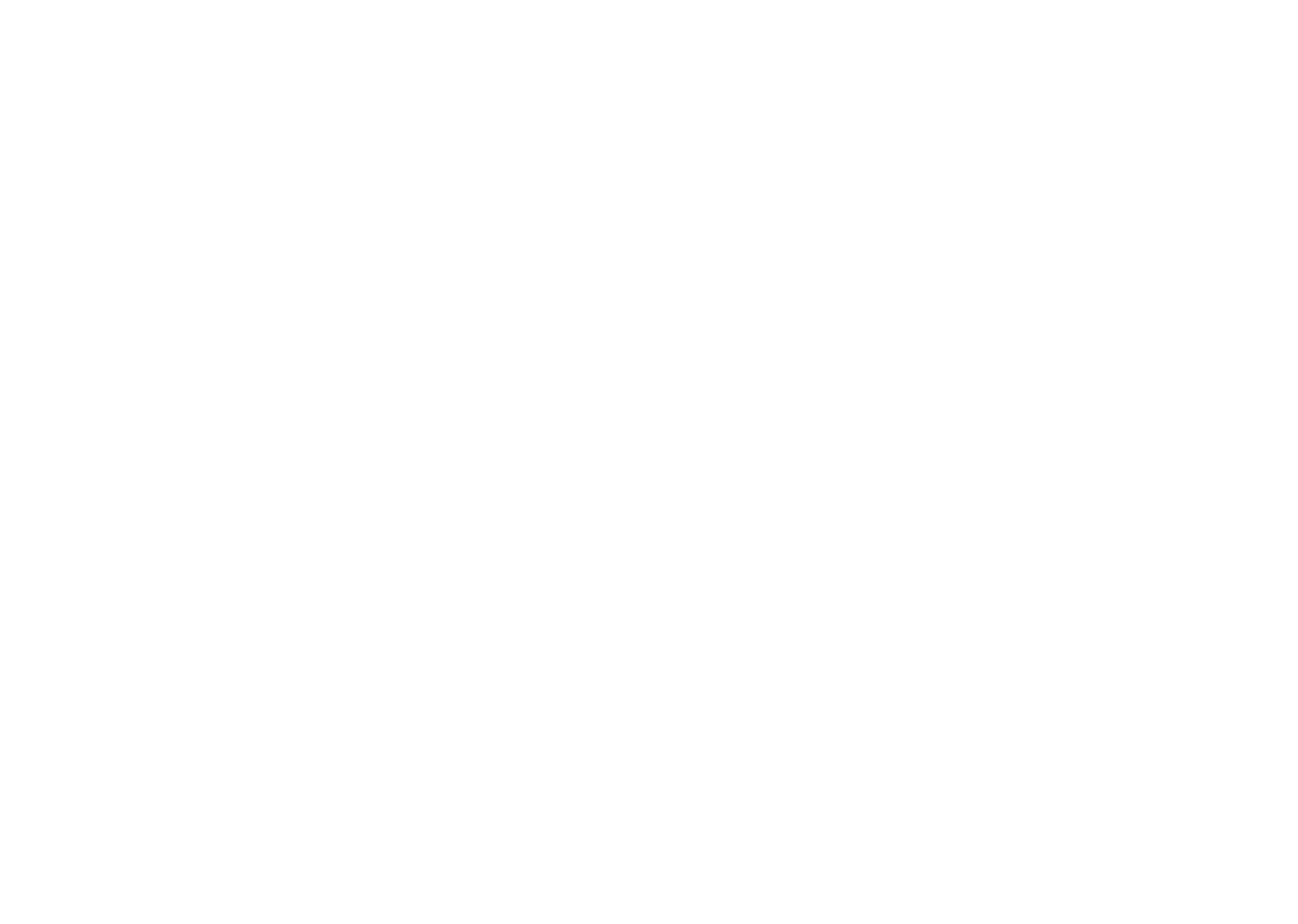
Немец
Как птичка в воротничке: востренький, русенький, мытенький. Когда я только ввалился в купэ с вязанкой дальневосточной почты (см. выше) и грохнул эту вязанку на его чемодан и он сказал: «извиняюсь» (по-немецки), а я сказал «ни черта» по-русски, и он обрадовался спутнику понимающему его язык — то жена моя заметила уверенно — «Сергей из этого немца сделает нового лефовца».
Поезд двинулся. Мы уже разложили все чемоданы. Распределили койки. Мы уже были, как родные братья. Но немец, которому было видимо все время не по себе, откинулся назад своим чижиковым торсом и протянув ладонь, сказал — «познакомимся». Причем произнес какой-то желательный звук (должно быть его фамилия). Звука этого я так и не запомнил. Я тоже назвал — немец запомнил.
Засыпав этот последний ров, нас разделяющий, немец вступил в свои права вагонного соседа. Он коммерсант. Двадцать лет жил в Китае, пока в 17-м году его не выперли оттуда в качестве враждебного элемента. Сейчас он возвращается восстанавливать свое разоренное гнездо. Германские беды и голод он старательно замалчивает. Хвалит наш червонец, но не считает рентную марку ниже его. Вся беда по его мнению в том, что немцы разучились работать. О кайзере Вильгельме вспоминает плюясь, как об идиоте. Он вполне согласен с социалистами, но требует постепенного социализма, и, конечно, за пределами своей земной жизни.
Поезд двинулся. Мы уже разложили все чемоданы. Распределили койки. Мы уже были, как родные братья. Но немец, которому было видимо все время не по себе, откинулся назад своим чижиковым торсом и протянув ладонь, сказал — «познакомимся». Причем произнес какой-то желательный звук (должно быть его фамилия). Звука этого я так и не запомнил. Я тоже назвал — немец запомнил.
Засыпав этот последний ров, нас разделяющий, немец вступил в свои права вагонного соседа. Он коммерсант. Двадцать лет жил в Китае, пока в 17-м году его не выперли оттуда в качестве враждебного элемента. Сейчас он возвращается восстанавливать свое разоренное гнездо. Германские беды и голод он старательно замалчивает. Хвалит наш червонец, но не считает рентную марку ниже его. Вся беда по его мнению в том, что немцы разучились работать. О кайзере Вильгельме вспоминает плюясь, как об идиоте. Он вполне согласен с социалистами, но требует постепенного социализма, и, конечно, за пределами своей земной жизни.
«Как же иначе, говорит он, вот к примеру мы коммерсанты, какое будет наше место в социалистическом государстве?» — «Вас там не будет», отвечаю. Он ошарашен моей бестактностью. Я беру слово и начинаю ему рассказывать про современную Германию коммунистов и шиберов, карательных бунтов и рурской оккупации, фокстрота и мистического экспрессионизма. Я кончаю призывом «Германия, даешь Октябрь!» Он расстроган и задает мне в лоб последний вопрос. «Что бы вы сделали в Германии на моем месте?» И я отвечаю не колеблясь: «То же, что и вы, ибо бытие определяет сознание». На этом пункте рвется политика и начинается искусство и быт.
Немец, захлебываясь, читает Франка «Der Burger». Этот роман с его точки зрения раскрывает небывалые глубины человеческой мысли. Немец натура художественная, он занимается пластической гимнастикой по Далькрозу. Я этого не могу стерпеть, я — только что изучавший с Эйзенштейном немца Бодэ, который говорит о выразительной гимнастике и поносит ритмическую. Я выстреливаю в немца весь запас моих гимнастических знаний и убеждений. Он потрясен, но не сдается. От теории мы переходим к практике. Позой человека рвущего ягодку с земли через забор, он демонстрирует пластику. Хватательными движениями и подставкой свободно пенделирующих ног под падающий корпус иллюстрирую я выразительность. Упавший чайник, кладущий начало небольшой и несудоходной речке, ставит точку дискуссии.
Немец, захлебываясь, читает Франка «Der Burger». Этот роман с его точки зрения раскрывает небывалые глубины человеческой мысли. Немец натура художественная, он занимается пластической гимнастикой по Далькрозу. Я этого не могу стерпеть, я — только что изучавший с Эйзенштейном немца Бодэ, который говорит о выразительной гимнастике и поносит ритмическую. Я выстреливаю в немца весь запас моих гимнастических знаний и убеждений. Он потрясен, но не сдается. От теории мы переходим к практике. Позой человека рвущего ягодку с земли через забор, он демонстрирует пластику. Хватательными движениями и подставкой свободно пенделирующих ног под падающий корпус иллюстрирую я выразительность. Упавший чайник, кладущий начало небольшой и несудоходной речке, ставит точку дискуссии.
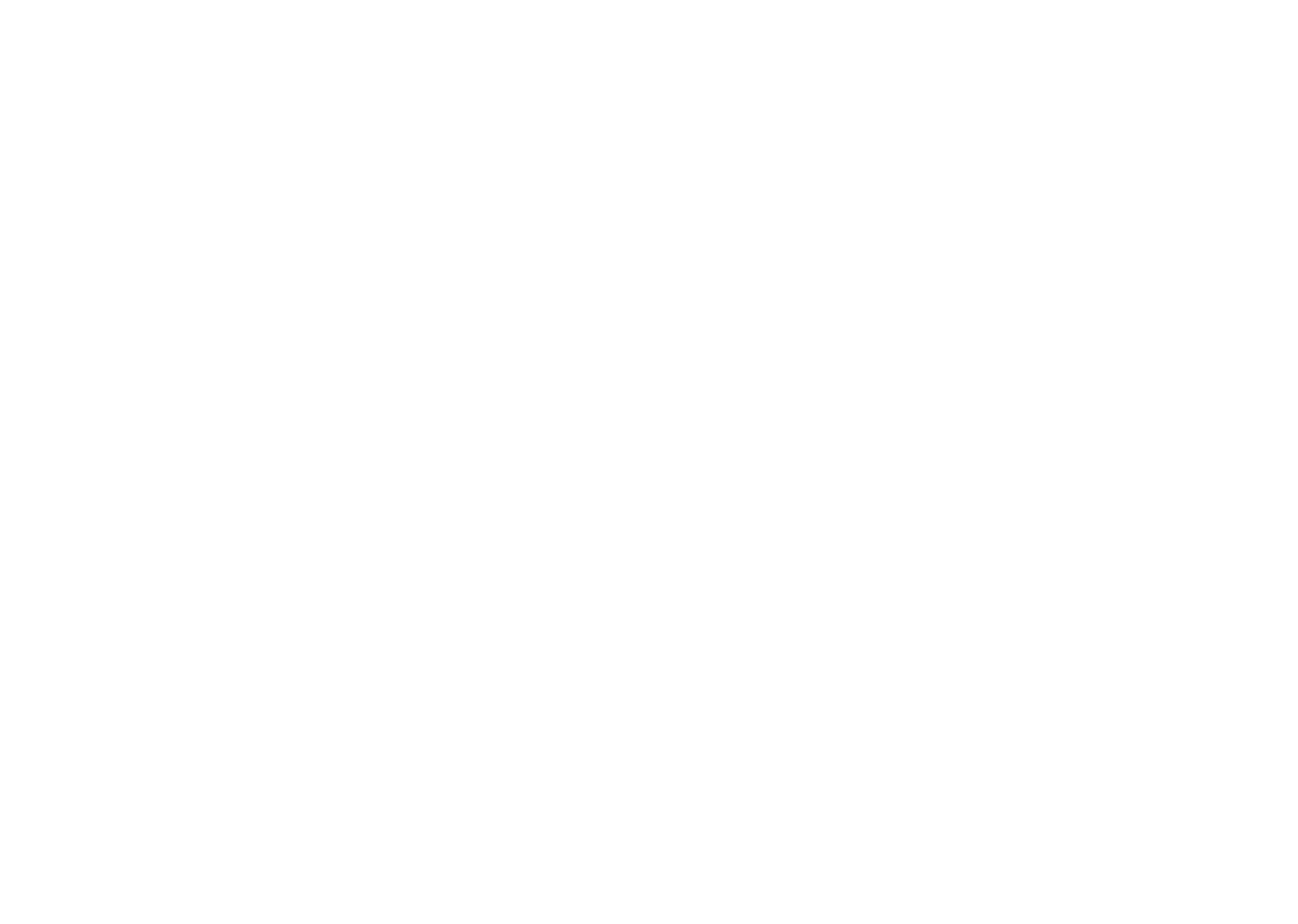
О воспоминаниях
Нехорошо издеваться над нежными чувствами.
Я и не издеваюсь. Я только фиксирую.
На полке стоит немцын чемодан. Он его снимает четыре раза в день до еды.
Открывает. Содержимое закрыто большущей фотографией лицом книзу. Он берет фотографию, смотрит — там изображено его семейство. Потом снова закрывает ею белье и с моей помощью водружает чемодан на вышку.
Я и не издеваюсь. Я только фиксирую.
На полке стоит немцын чемодан. Он его снимает четыре раза в день до еды.
Открывает. Содержимое закрыто большущей фотографией лицом книзу. Он берет фотографию, смотрит — там изображено его семейство. Потом снова закрывает ею белье и с моей помощью водружает чемодан на вышку.
Иногда отложив карточку, он перебирает коробочки с патентованными средствами и долго прочитывает то, что написано на этикетках.
Каких только нет коробок — от слабости, волнения, запора, поноса, насморка, слезотечения, лихорадки, размягчения костей, склероза. Немец не ест их, он только смотрит. А я думаю о нежности его жены, которая закупала ему эти пилюли и таблетки. В дороге мол скушает со скуки и станет новеньким и исправным, как свежий велосипед. Я жалею, что он их не ел.
Он ел только сметану, которую покупал на станциях.
Каких только нет коробок — от слабости, волнения, запора, поноса, насморка, слезотечения, лихорадки, размягчения костей, склероза. Немец не ест их, он только смотрит. А я думаю о нежности его жены, которая закупала ему эти пилюли и таблетки. В дороге мол скушает со скуки и станет новеньким и исправным, как свежий велосипед. Я жалею, что он их не ел.
Он ел только сметану, которую покупал на станциях.
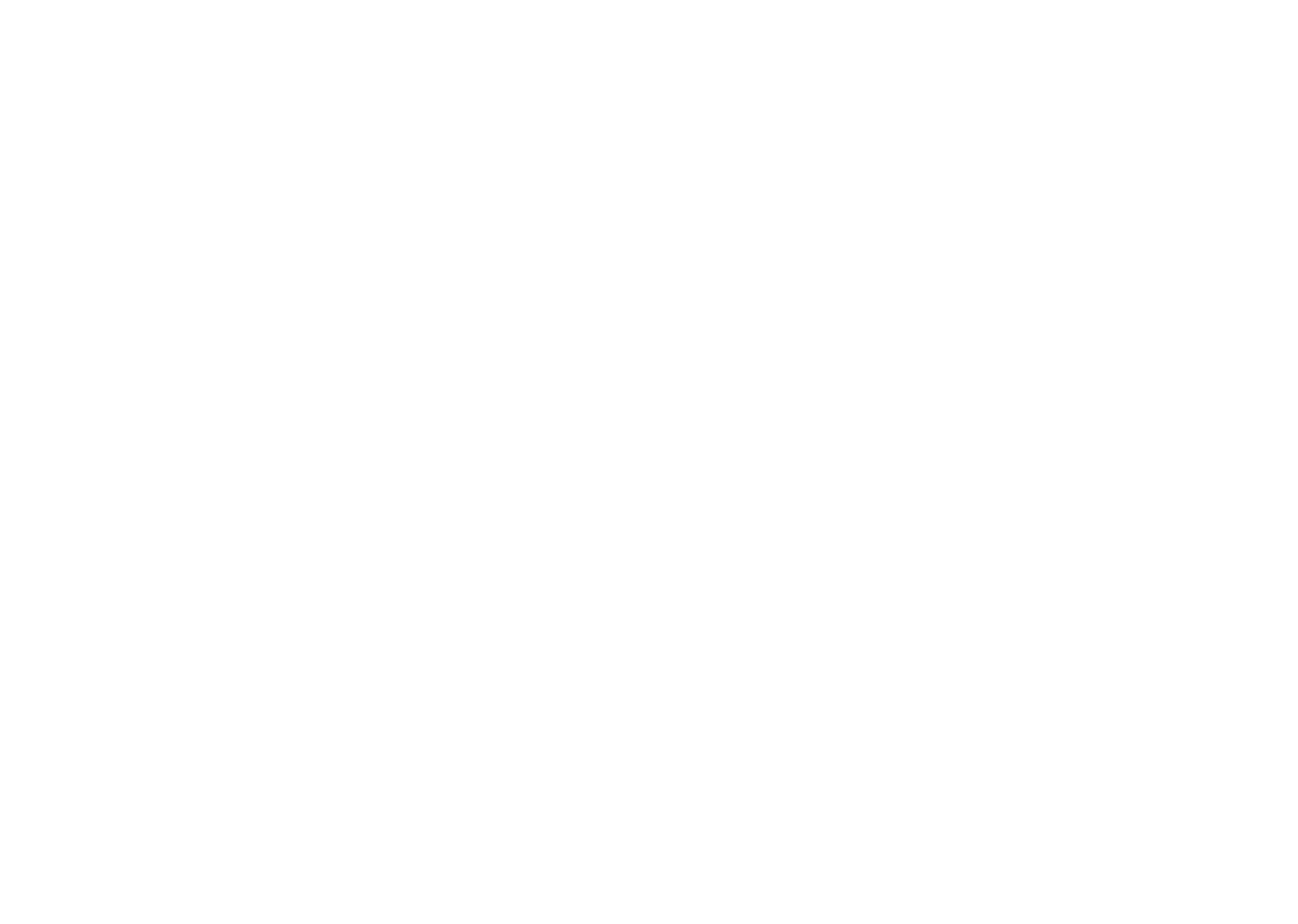
Русские нравы
Проводник устроил кровать. Немец перевернул матрац и стал его изучать.
В левой руке у него пульверизатор в роде автомобильной сирены.
«Мне, — говорит он, — сказали, что ездить по России, — это значит быть едою клопов».
— «Извините, наши клопы немцев не едят», обиделся я по-русски.
— «Представьте себе, я уже 15 минут ищу и ни клопа, ни блохи, а мне дано два фунта порошка от насекомых. Зря пропадает».
«Надо клопов было захватить, чтоб зря не пропадало», огрызаюсь я.
Такие события подымают национальное чувство гораздо более, чем кустарно-промышленные выставки с лопарскими руководителями из моржевых костей.
В левой руке у него пульверизатор в роде автомобильной сирены.
«Мне, — говорит он, — сказали, что ездить по России, — это значит быть едою клопов».
— «Извините, наши клопы немцев не едят», обиделся я по-русски.
— «Представьте себе, я уже 15 минут ищу и ни клопа, ни блохи, а мне дано два фунта порошка от насекомых. Зря пропадает».
«Надо клопов было захватить, чтоб зря не пропадало», огрызаюсь я.
Такие события подымают национальное чувство гораздо более, чем кустарно-промышленные выставки с лопарскими руководителями из моржевых костей.
А как был немец счастлив, когда некий иностранец, через два купэ от нас обнаружил блоху. На блоху был высыпан весь порошок и она, не успев отравиться, погибла в этой куче от удушения. А сверху кучи лег счастливый иностранец.
Гораздо сложнее было положение немца и других иностранцев, когда в вагон-ресторане у них отказались принять американские доллары в уплату за обед и потребовали червонцев, которых у них не было. Я живо представил себе это ощущение — набит карман бумажками, лучшей в мире валютой, и вдруг, как под декретом Совнаркома эта валюта превращается просто в смешную пачку клозетных бумажек. Я видел как иностранцы заключили свои губы в скобки гордых морщин, презрительных и возмущенных. Это же варварство не брать лучшую в мире валюту! Но буфетчик был непреклонен. Потом иностранцы бегали по вагону и искали Ильинку. Таковая нашлась. За пять долларов был дан червонец (куртаж — за безвыходность положения). А что поделаешь? Либо кушай пилюли от запора и сиди с долларами — либо ищи червонцев. Тоже «ножницы» — в России без ножниц нельзя!
Гораздо сложнее было положение немца и других иностранцев, когда в вагон-ресторане у них отказались принять американские доллары в уплату за обед и потребовали червонцев, которых у них не было. Я живо представил себе это ощущение — набит карман бумажками, лучшей в мире валютой, и вдруг, как под декретом Совнаркома эта валюта превращается просто в смешную пачку клозетных бумажек. Я видел как иностранцы заключили свои губы в скобки гордых морщин, презрительных и возмущенных. Это же варварство не брать лучшую в мире валюту! Но буфетчик был непреклонен. Потом иностранцы бегали по вагону и искали Ильинку. Таковая нашлась. За пять долларов был дан червонец (куртаж — за безвыходность положения). А что поделаешь? Либо кушай пилюли от запора и сиди с долларами — либо ищи червонцев. Тоже «ножницы» — в России без ножниц нельзя!
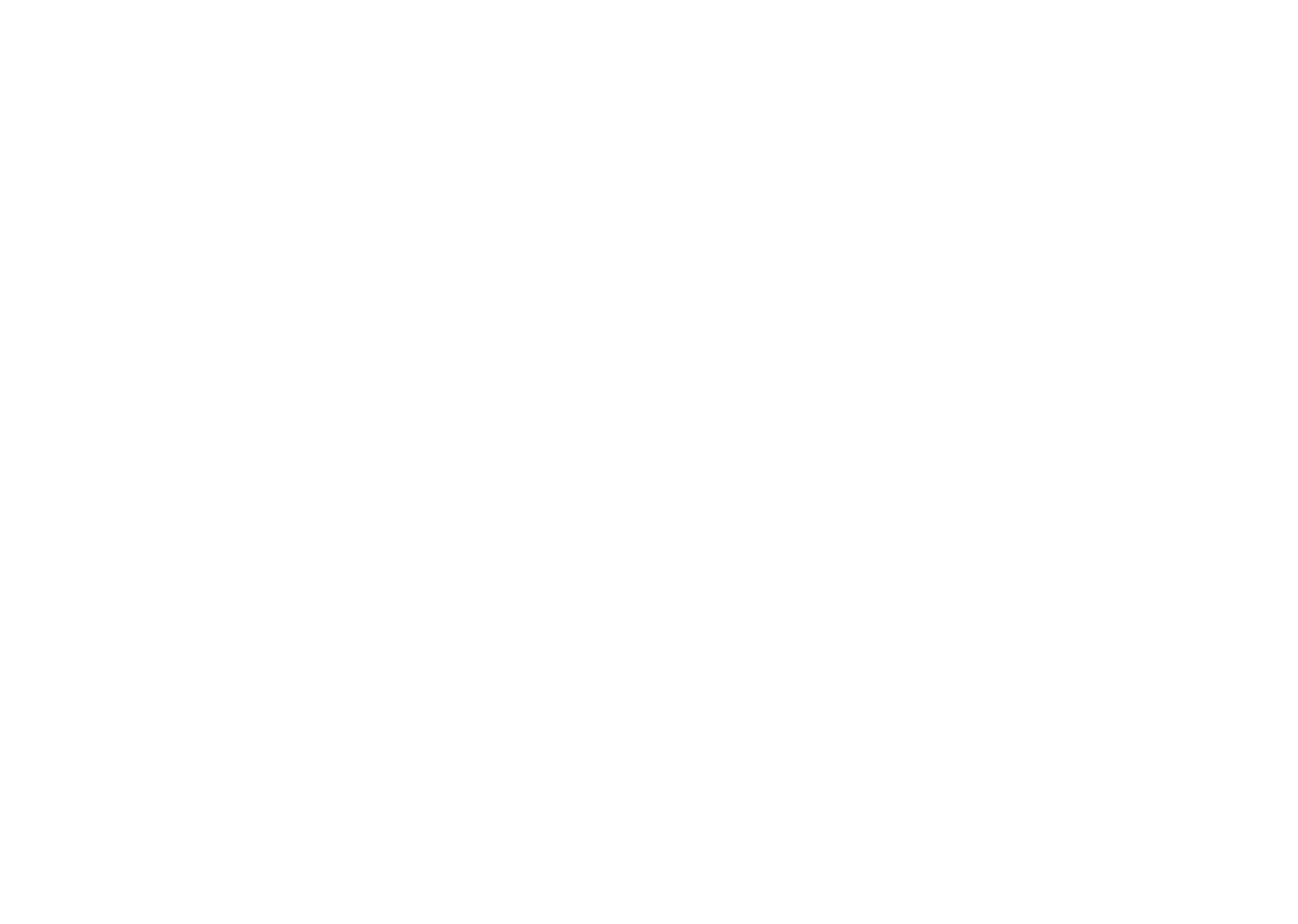
Путь
Поезд идет чинно и точно. Сломается болт — починят и начинают нагонять опоздание. В Москве меня пугали заносами. Заносов нет. Бег поезда откидывает назад поля и леса, губернии и дни. Станции чинные и молчаливые. Я помню ехал в последний раз этим путем в 1921 году; было страшное голодное время, станции стонали о хлебе, оскал сыпняка кляцал в запахе карболки и белых известковых затеках вдоль рельс. Была напряженная лихорадочность в движениях распоряжающихся людей, настороженность в постоянно мелькавших красноармейских шишаках. Штык был такою же принадлежностью пейзажа, как зонт в дождливую погоду. С витрин агитпунктов гудели еще плакаты, давнишние военные плакаты о панах, бандитах, о заразах.
Сейчас нет.
Ося говорил — «афиши смыты дождем». Я выскакивал десятижды — нет афиш, смытых дождем, вообще я не видел афиш. Даже плакаты о сахарном займе я видел редко. Санитарные плакаты также редки. Правильно — чего вопить, когда надо фактически поддерживать чистоту и она поддерживается. У станционных помещений вид чистый, подобранный. Платформы подчас даже кокетливо чисты. Агитпункты вымерли. Вместо них стоят киоски контрагентства печати с обстоятельными женщинами, называющими нехорошие рублевые и несколько-рублевые цены книг. И на киосках идет классовая борьба — с одной стороны Главполитпросветские, комсомольские и Госиздатские издания — агитлитература и обстоятельная экономическая, и с другой стороны, — путевая лектюра. (Мир приключений и иже с ним, Круговцы, Замятин и прочее чтиво — книги, которые надо печатать на самой дешевой и мягкой бумаге, ибо этих книг беречь не стоит; они как бумажные воротнички годны только на одну носку.)
Должен отметить, что перед нашими СССРскими дорожными киосками, заграничные — это такое убожество, которому даже в блатном словаре имени нет. Не говоря уже о киосках по Южно-Манчжурской жел. дороге, где, кроме английских «мэгезинов» — иллюстрированных журналов вроде нашего Аргуса и журналов мод, — ничего нет. Но и киоски по Кит. жел. дороге, продающие русскую литературу скорей напоминают жалкого пропойцу, которому уже нечего сказать: несколько детских книг с кукольными бэби на лакированных обложках, хороший заряд черносотенных газет, Чехов и Лейкин берлинского издания и целые груды книг неведомых писак, то с сантиментальными названиями в роде «Без счастья», «Последние огни», то с белополитическими заголовками, в роде «Мученики таежного похода» — специальный вид унылой золотопогонной романтики и армейского пафоса. Места изданий — София, Белград или Одесса еще того периода, когда белые не были сброшены в Черное море. Одна только книга бросилась в глаза, ассоциацией с Москвой — С. Бобров. «Спецификация идитола», германское издание. Неуютно Боброву там на харбинском вокзальном прилавке и лежит он там сирый и перманентно единоэкземплярный. Как мне удалось выяснить в Харбине — аренда киосков по железной дороге Госиздатом или Дальневосточным книжным делом (бывш. Госкнига) дело вполне возможное.
Сейчас нет.
Ося говорил — «афиши смыты дождем». Я выскакивал десятижды — нет афиш, смытых дождем, вообще я не видел афиш. Даже плакаты о сахарном займе я видел редко. Санитарные плакаты также редки. Правильно — чего вопить, когда надо фактически поддерживать чистоту и она поддерживается. У станционных помещений вид чистый, подобранный. Платформы подчас даже кокетливо чисты. Агитпункты вымерли. Вместо них стоят киоски контрагентства печати с обстоятельными женщинами, называющими нехорошие рублевые и несколько-рублевые цены книг. И на киосках идет классовая борьба — с одной стороны Главполитпросветские, комсомольские и Госиздатские издания — агитлитература и обстоятельная экономическая, и с другой стороны, — путевая лектюра. (Мир приключений и иже с ним, Круговцы, Замятин и прочее чтиво — книги, которые надо печатать на самой дешевой и мягкой бумаге, ибо этих книг беречь не стоит; они как бумажные воротнички годны только на одну носку.)
Должен отметить, что перед нашими СССРскими дорожными киосками, заграничные — это такое убожество, которому даже в блатном словаре имени нет. Не говоря уже о киосках по Южно-Манчжурской жел. дороге, где, кроме английских «мэгезинов» — иллюстрированных журналов вроде нашего Аргуса и журналов мод, — ничего нет. Но и киоски по Кит. жел. дороге, продающие русскую литературу скорей напоминают жалкого пропойцу, которому уже нечего сказать: несколько детских книг с кукольными бэби на лакированных обложках, хороший заряд черносотенных газет, Чехов и Лейкин берлинского издания и целые груды книг неведомых писак, то с сантиментальными названиями в роде «Без счастья», «Последние огни», то с белополитическими заголовками, в роде «Мученики таежного похода» — специальный вид унылой золотопогонной романтики и армейского пафоса. Места изданий — София, Белград или Одесса еще того периода, когда белые не были сброшены в Черное море. Одна только книга бросилась в глаза, ассоциацией с Москвой — С. Бобров. «Спецификация идитола», германское издание. Неуютно Боброву там на харбинском вокзальном прилавке и лежит он там сирый и перманентно единоэкземплярный. Как мне удалось выяснить в Харбине — аренда киосков по железной дороге Госиздатом или Дальневосточным книжным делом (бывш. Госкнига) дело вполне возможное.
Извиняюсь — я забежал вперед тысячи на четыре верст.
Возвращаюсь.
Вдоль вагонов бегают мальчишки, просят старых газет (особенно на мелких станциях) на курево.И стены внутри станций посолиднели. Коммерция и производство. «Сибторг», «Крайпромбюро», «Экспортхлеб», «Хлебопродукт». Объявления солидные, увесистые, — как лица хорошо выбритых негоциантов, и говорят эти объявления не истошным воем, рявом и визгом Маяковских агитплакатов или пришибленным стоном наивных местного приготовления листовок, — а упитанным бархатным басом.
Мой немец донимает станционные буфеты требованием черной икры, — он ее не успел купить в Москве. Но, увы, ему суждено не вывезти с собою этой экзотической нашей достопримечательности, о которой он говорит с таким почтительным восторгом, как мы, например, о супе из ласточкиных гнезд.
На станции Новониколаевск разминаю ноги по перрону. Тепло. С московским холодом, конечно, началась сибирская теплынь. Через барьер висит мальчонка. Затеваю разговор:
— Что смотришь?
— Поезд.
Правда, видит он от поезда только кусок багажного вагона, ибо болтается он на перилах в довольно сжатом зданиями проходе.
— Зачем смотришь поезд?
Вопрос явно глупый. Такой вопрос может задать только разминающий ноги путешественник с затекшей головой. Но оказывается, что вопрос не глуп.
— Учительница велела.
— Учительница?
— Ну да. Мы потом на него сочинение писать будем.
— Так ты бы поближе подошел.
Но он не удостоил ответом и уставился в видимый ему угол багажного вагона со всем доступным ему вниманием, прилежанием и поведением.
Потрясенный по линии Наркомпроса, я пристал к бабе, сидевшей на санях за вокзалом:
— Что это у вас церковь такая корявая.
— Церковь?
Баба попыталась повернуть лицо к церкви, но одежа, в которую баба была увязана, воспротивилась. Тогда она двинула на меня глазами (остальное не поддавалось, будучи нацелено на лошадиный хвост) и сказала:
— Какая есть, такая и стоит.
Антирелигиозный вопрос повис в воздухе, мой главполитпросвет спасовал.
А из багажного вагона выгружали тюки газет, книг, очередный запал, подкладываемый Москвой под города и села, очередную порцию пищи для сголодавшихся провинциальных мозгов. Она же очередной запас бумаги на самокрутку.
Возвращаюсь.
Вдоль вагонов бегают мальчишки, просят старых газет (особенно на мелких станциях) на курево.И стены внутри станций посолиднели. Коммерция и производство. «Сибторг», «Крайпромбюро», «Экспортхлеб», «Хлебопродукт». Объявления солидные, увесистые, — как лица хорошо выбритых негоциантов, и говорят эти объявления не истошным воем, рявом и визгом Маяковских агитплакатов или пришибленным стоном наивных местного приготовления листовок, — а упитанным бархатным басом.
Мой немец донимает станционные буфеты требованием черной икры, — он ее не успел купить в Москве. Но, увы, ему суждено не вывезти с собою этой экзотической нашей достопримечательности, о которой он говорит с таким почтительным восторгом, как мы, например, о супе из ласточкиных гнезд.
На станции Новониколаевск разминаю ноги по перрону. Тепло. С московским холодом, конечно, началась сибирская теплынь. Через барьер висит мальчонка. Затеваю разговор:
— Что смотришь?
— Поезд.
Правда, видит он от поезда только кусок багажного вагона, ибо болтается он на перилах в довольно сжатом зданиями проходе.
— Зачем смотришь поезд?
Вопрос явно глупый. Такой вопрос может задать только разминающий ноги путешественник с затекшей головой. Но оказывается, что вопрос не глуп.
— Учительница велела.
— Учительница?
— Ну да. Мы потом на него сочинение писать будем.
— Так ты бы поближе подошел.
Но он не удостоил ответом и уставился в видимый ему угол багажного вагона со всем доступным ему вниманием, прилежанием и поведением.
Потрясенный по линии Наркомпроса, я пристал к бабе, сидевшей на санях за вокзалом:
— Что это у вас церковь такая корявая.
— Церковь?
Баба попыталась повернуть лицо к церкви, но одежа, в которую баба была увязана, воспротивилась. Тогда она двинула на меня глазами (остальное не поддавалось, будучи нацелено на лошадиный хвост) и сказала:
— Какая есть, такая и стоит.
Антирелигиозный вопрос повис в воздухе, мой главполитпросвет спасовал.
А из багажного вагона выгружали тюки газет, книг, очередный запал, подкладываемый Москвой под города и села, очередную порцию пищи для сголодавшихся провинциальных мозгов. Она же очередной запас бумаги на самокрутку.
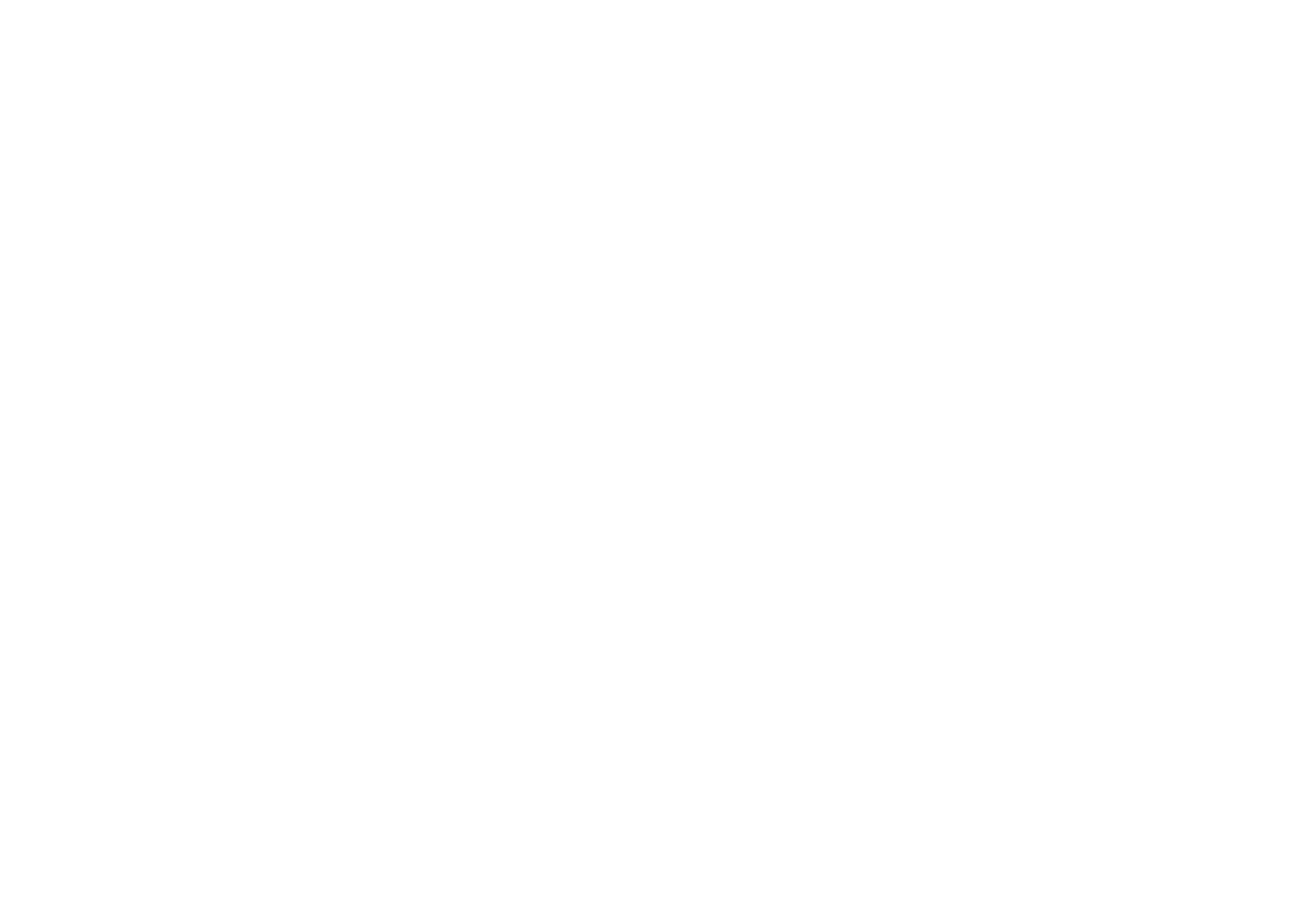
Что делать?
Книга прочитывается быстро. Писать можно, но разве только спец по параличным сифилитикам разберет ваш почерк. Соседу вы приедаетесь быстро, особенно, когда обнаруживается, что ваши убеждения не пересекаются ни в одной точке пространства, а спорить скучно, ибо этот спор (в купэ международного вагона) никак не может кончиться, ни руганью, ни дракой. Спать 24 часа в сутки трудно, тошнить начинает, и спина чувствует себя, как подошва солдата, стоящего на часах. Что делать? Выход есть. Есть преферанс, до отупения, до потери всякого обличия. (Этим я не согрешил.)
Есть шахматы (о них ниже).
Можно поиграть.
Для человека, любящего покушать, — путь Москва — Чита это проход в верхних торговых рядах.
Станция Буй. Покупается сыр. Ночь. Фонари. Заспанные люди покупают бомбы сыра и прячут их у окон (где похолоднее). В международном вагоне их особенно удобно сберегать, так как окна имеют войлочный передник.
Есть шахматы (о них ниже).
Можно поиграть.
Для человека, любящего покушать, — путь Москва — Чита это проход в верхних торговых рядах.
Станция Буй. Покупается сыр. Ночь. Фонари. Заспанные люди покупают бомбы сыра и прячут их у окон (где похолоднее). В международном вагоне их особенно удобно сберегать, так как окна имеют войлочный передник.
Только в очень редких случаях сыр вываливается из-под этих передников в плевательницу.
Какая-то станция перед Вяткой. Страшный крик в роде самосуда. Люди продают корзины, только корзины, совершенно пустые. Снег скрипит, корзины скрипят, люди кричат, срывая голоса: «Коррзинны харроши. Коррзинны. Купиттеэ!». И есть, которые покупают и волокут в вагон и после всю дорогу маются.
Вятка — любые изделия из дерева, карельская береза, туфли, мундштуки, игрушки. Обычно покупают пару лыковых туфель, в которых нельзя ни ходить, ни бросать окурки.
Екатеринбург — камень. Аметисты, топазы — все разноцветное, прозрачное, блестящее. Овальные полированные брошки, каменные мундштуки, об которые ломаются зубы. Здесь главным образом покупают женщины — кольца, сережки, брошки и просто камешки. Мужчины покупают искусственный гротик, склеенный из разных кристаллов. Иногда у этого грота бывает термометр.
Омск и все, что около него, — масло. Кирпичи, глыбы, столбы масла. На этом перегоне люди жиреют, жиреют и их платье. На этом перегоне очень часто моют руки.
Какая-то станция перед Вяткой. Страшный крик в роде самосуда. Люди продают корзины, только корзины, совершенно пустые. Снег скрипит, корзины скрипят, люди кричат, срывая голоса: «Коррзинны харроши. Коррзинны. Купиттеэ!». И есть, которые покупают и волокут в вагон и после всю дорогу маются.
Вятка — любые изделия из дерева, карельская береза, туфли, мундштуки, игрушки. Обычно покупают пару лыковых туфель, в которых нельзя ни ходить, ни бросать окурки.
Екатеринбург — камень. Аметисты, топазы — все разноцветное, прозрачное, блестящее. Овальные полированные брошки, каменные мундштуки, об которые ломаются зубы. Здесь главным образом покупают женщины — кольца, сережки, брошки и просто камешки. Мужчины покупают искусственный гротик, склеенный из разных кристаллов. Иногда у этого грота бывает термометр.
Омск и все, что около него, — масло. Кирпичи, глыбы, столбы масла. На этом перегоне люди жиреют, жиреют и их платье. На этом перегоне очень часто моют руки.
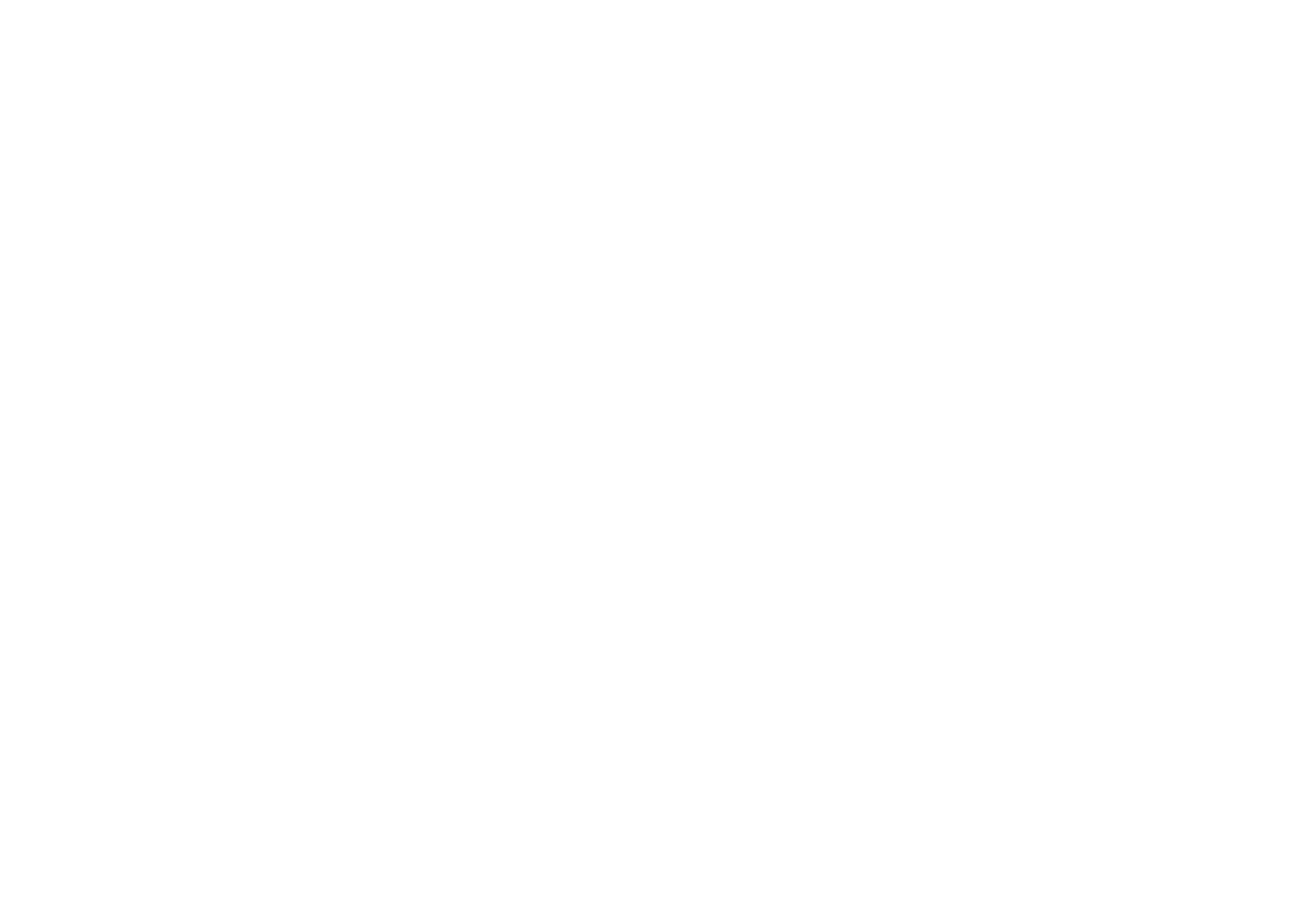
Путешествие на луну
До луны от земли 360000 верст.
Он сделал уже 180000. Он уже на полдороге. Ему бы пора остановиться, закусить, полюбоваться природой, ну там метеорами какими-нибудь, за кометин хвостик подержаться. Но он не может, у него мандат и заграничный паспорт, толстый, как молитвенник. Но в этом паспорте визы на луну нет.
Короче — он дипкурьер, и зовут его мистер Блинч (а если нежно, то — блинчик). В действительности его зовут совсем иначе; но такая карточка оказалась прибитой к его купэ на Южно-Манчжурской железной дороге, и проводник японец уверил, что Блинч — это самый и есть.
Можно ли описать мистера Блинча? По НОТ'у его не опишешь, по НОТ'у у меня, например, нос обыкновенный — что тут скажешь. Он (не нос, а мистер Блинч) смолокудр, мускулист (три пуда одной рукой рвет) лицом... о лице его мой немец долго бормотал что-то похвальное с точки зрения живописи. Блинч был в Америке, играл в кинематографе, был комиссаром Конармии, и вот нынче он путешественник на луну. Если он еще не ездил в Аргентину, Австралию, на Южный Полюс, то только потому, что там нет еще СССРских представительств, но...шлюзы признания открыты Макдональдом, и недалеко то время, когда Мистер Блинч будет шагать по лунным кратерам с колоссальным, совершенно невероятным (с таким в сандуновские бани ходить) портфелем, наполненным диппочтой за семью печатями.
Он сделал уже 180000. Он уже на полдороге. Ему бы пора остановиться, закусить, полюбоваться природой, ну там метеорами какими-нибудь, за кометин хвостик подержаться. Но он не может, у него мандат и заграничный паспорт, толстый, как молитвенник. Но в этом паспорте визы на луну нет.
Короче — он дипкурьер, и зовут его мистер Блинч (а если нежно, то — блинчик). В действительности его зовут совсем иначе; но такая карточка оказалась прибитой к его купэ на Южно-Манчжурской железной дороге, и проводник японец уверил, что Блинч — это самый и есть.
Можно ли описать мистера Блинча? По НОТ'у его не опишешь, по НОТ'у у меня, например, нос обыкновенный — что тут скажешь. Он (не нос, а мистер Блинч) смолокудр, мускулист (три пуда одной рукой рвет) лицом... о лице его мой немец долго бормотал что-то похвальное с точки зрения живописи. Блинч был в Америке, играл в кинематографе, был комиссаром Конармии, и вот нынче он путешественник на луну. Если он еще не ездил в Аргентину, Австралию, на Южный Полюс, то только потому, что там нет еще СССРских представительств, но...шлюзы признания открыты Макдональдом, и недалеко то время, когда Мистер Блинч будет шагать по лунным кратерам с колоссальным, совершенно невероятным (с таким в сандуновские бани ходить) портфелем, наполненным диппочтой за семью печатями.
Он меня потряс немедленно: во-первых, когда я ему представился и сказал, что буду ему сопутствовать до Пекина, то он меня окинул таким пронзительно-подозрительным взглядом, что я почувствовал себя, по меньшей мере, заграничным шпионом, злоумышляющим на его почту. Лишь верст через триста соизволил почувствовать мистер Блинч во мне союзника. Во-вторых, он меня пронзил предложением — организовать ком'ячейку поезда и в-третьих — устроить литературно-вокальный вечер для поезжан в вагоне-ресторане. Проекты эти не осуществились. Зато произошло другое, а именно — бешеный, перманентный шахматный матч между мистером, его спутником и мною.
У нас не было шахматов — мы их крали у бурятского предсовнаркома, он приходил к нам за шахматами, — мы его сажали за них и обыгрывали. Мы крыли шахом, крыли матом. От тряски короли лезли на тур, пешки занимали странные места, в которых долго надо было разбираться, восстанавливая расположение. Мы делали ходы медленно и напряженно и с веселым визгом брали их назад, заметив ляпсус. У нас были партии по 10 верст, были и по 80. Чемпионат вагона взял я и был столь горд, что готов был играть по радио с Ласкером. Мы мечтали, ступивши на твердую землю, купить самоучитель шахматной игры и играть теоретически. И стало грустно нам, когда в Верхнеудинске бурятский предсовнарком унес шахматы. Мистер Блинч правильно заметил: «идиоты! Надо было в Вятке шахматы купить!».
Когда поедете на Дальний Восток — купите шахматы в Вятке. Это не лирика — это НОТ. Так сказал Ося.
У нас не было шахматов — мы их крали у бурятского предсовнаркома, он приходил к нам за шахматами, — мы его сажали за них и обыгрывали. Мы крыли шахом, крыли матом. От тряски короли лезли на тур, пешки занимали странные места, в которых долго надо было разбираться, восстанавливая расположение. Мы делали ходы медленно и напряженно и с веселым визгом брали их назад, заметив ляпсус. У нас были партии по 10 верст, были и по 80. Чемпионат вагона взял я и был столь горд, что готов был играть по радио с Ласкером. Мы мечтали, ступивши на твердую землю, купить самоучитель шахматной игры и играть теоретически. И стало грустно нам, когда в Верхнеудинске бурятский предсовнарком унес шахматы. Мистер Блинч правильно заметил: «идиоты! Надо было в Вятке шахматы купить!».
Когда поедете на Дальний Восток — купите шахматы в Вятке. Это не лирика — это НОТ. Так сказал Ося.
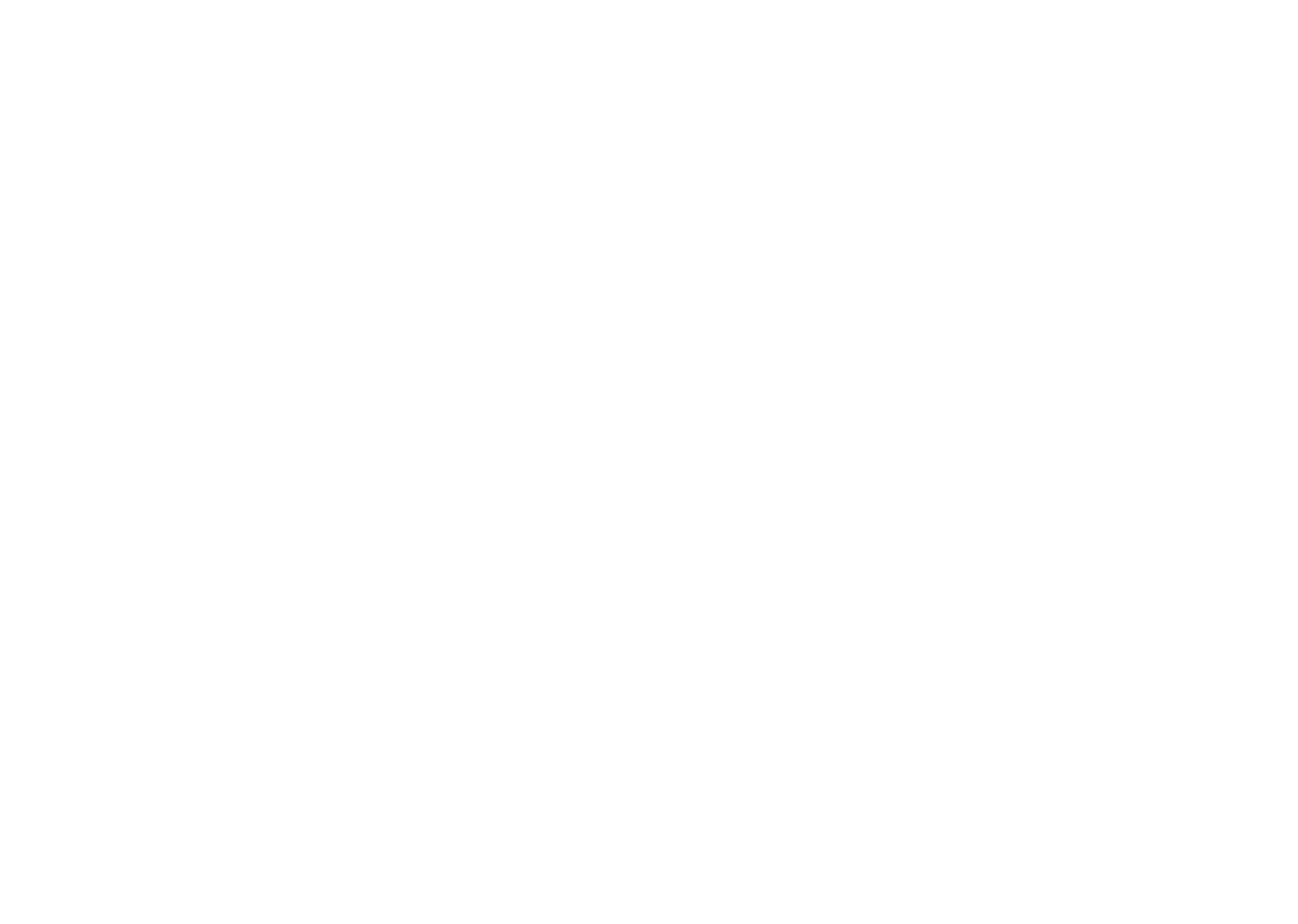
Байкал
(Видовая)
Опоздание: в Иркутске чинились. Едем ночью. Ничего не видно. Белесый горизонт и все. На одной из остановок улавливаю оживленное волнение в коридоре. Выхожу. С луной явно неладно. Висит, как медная пуговица, да еще густо закопченная — совсем керченская сельдь. Сквозь копоть багровый кровавый проблеск. То-то бы раздолье символисту ахнуть сонет о том, что тень земная и до луны отбрасывает пороховую копоть и кровь.
И вдруг с краю этого мутного пятна обозначился острый, тонкий электрически-блестящий серп — луна вылезала из погреба.
И вдруг с краю этого мутного пятна обозначился острый, тонкий электрически-блестящий серп — луна вылезала из погреба.
Затмение на солнце. Обозначился холодный, белый, стылый Байкал, а справа взмахи гор, на морозе особенно острых, особенно хрупких — подстать снегу, скрипящему дубленой окоростовелой подошвенной кожей марки «Дуб». А в это время китайцы ходили по Харбину, нося статуи идолов, и колотили в медные гонги, чтобы прогнать дракона, заглотившего луну, по их мнению.
И пошли чесать пулею в дула туннелей. Влет — грохот сперт в каменном коридоре, ломится в вагон; вылет — и грохот нежнеет, растрезвониваясь в воздух и улетая над Байкалом.
И пошли чесать пулею в дула туннелей. Влет — грохот сперт в каменном коридоре, ломится в вагон; вылет — и грохот нежнеет, растрезвониваясь в воздух и улетая над Байкалом.
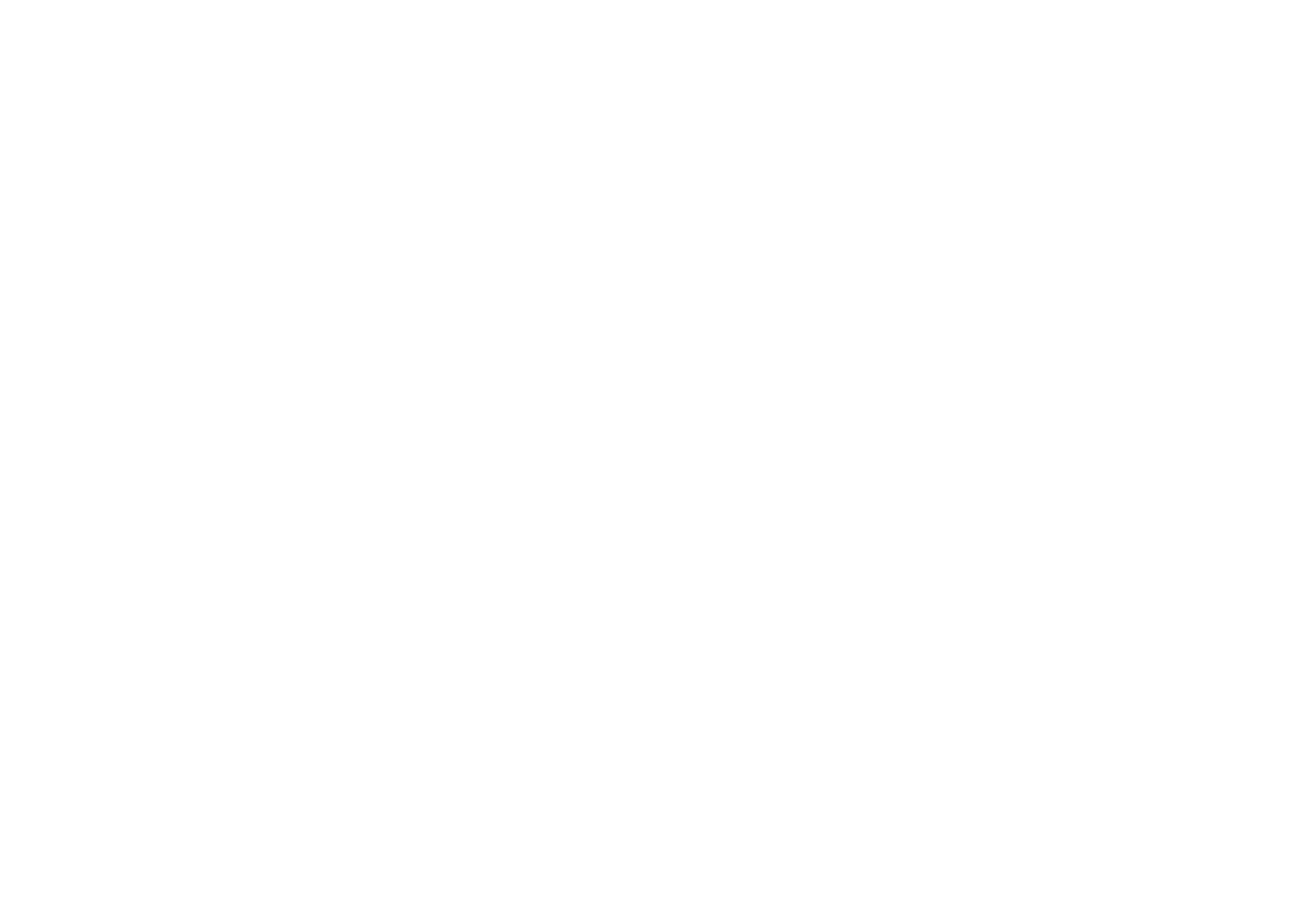
Верхнеудинск
Кончились билеты, надо брать новые, пересдавать багаж. Цены билетов резко скачут вверх. Международный до Читы обходится около 40 рублей. Поэтому все международники перебираются во 2-й или 3-й класс. На Дальнем Востоке вместо двух сортов мест: жесткое и мягкое — пять: 4-й, 3-й, 2-й, 1-й класс и международный. Цена 4-го примерно равна нашему 3-му, а дальше идет скачка по огромной пропорции. Хорошо еще, что теперь можно будет брать прямые билеты на Манчжурию, а не отдельно до Читы, а затем в Чите до Манчжурии.
Такой сквозной билет обходится раза в 1 1/2 дешевле двукратного. Такая ломка пути крайне неудобна, о ней много говорят, но пока ничего не сделано для возможности прямого сквозного проезда.
Верхнеудинск — столица бурятской ССРеспублики. Бурятия строит свою страну, которую нещадно спаивало царское время, наградившее бурят 50 % триппера и 70 — сифилиса. Бурятия сейчас строит школы и кооперируется.
В складчину по пуду муки везут по 100 по 200 пудов в город из окрестностей и требуют товаров за этот паевой взнос.
Верхнеудинск — столица бурятской ССРеспублики. Бурятия строит свою страну, которую нещадно спаивало царское время, наградившее бурят 50 % триппера и 70 — сифилиса. Бурятия сейчас строит школы и кооперируется.
В складчину по пуду муки везут по 100 по 200 пудов в город из окрестностей и требуют товаров за этот паевой взнос.
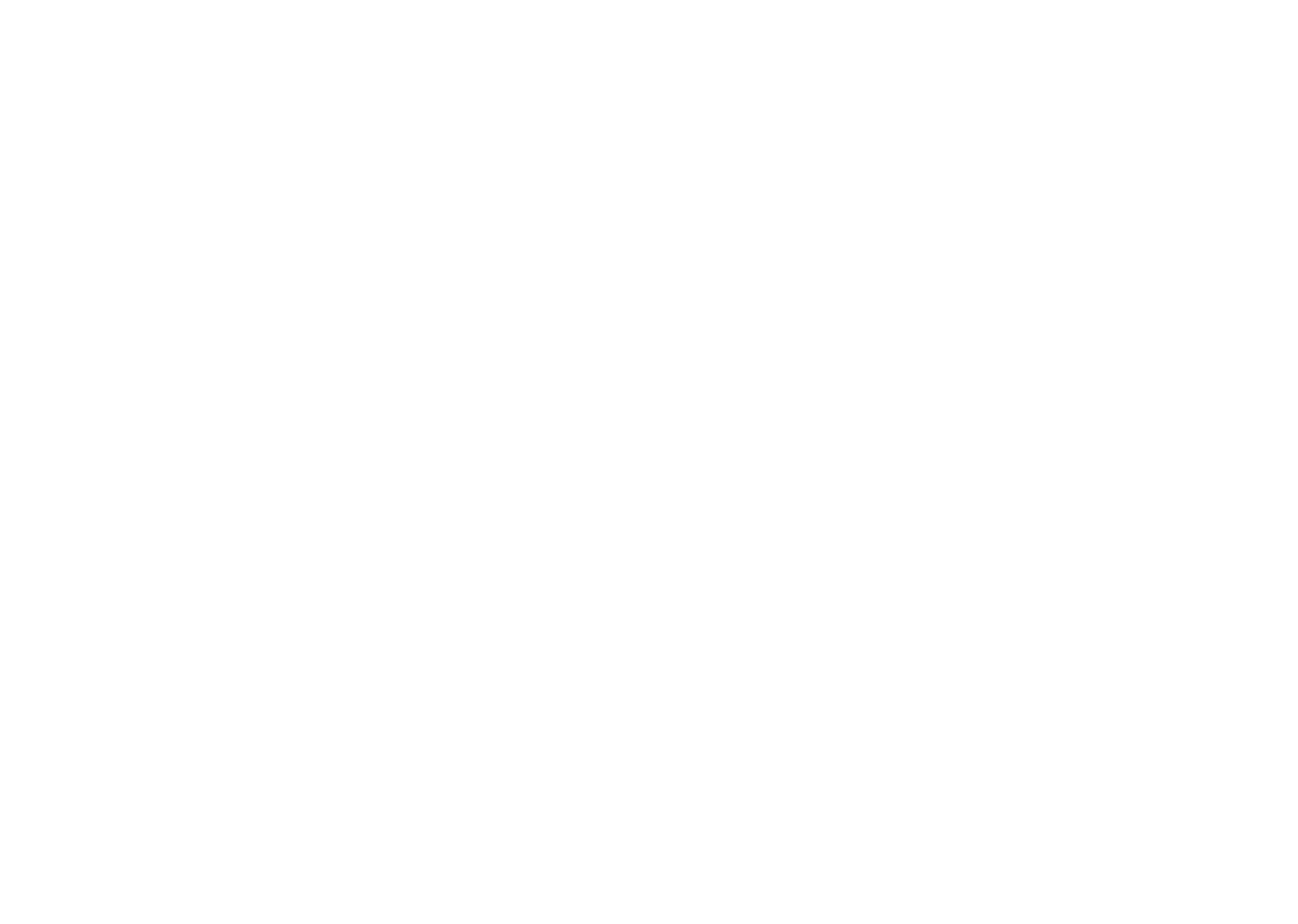
Пейзаж
За Верхнеудинском сопки точно на ярмарку собрались. Протискиваемся между ними. А они уже не русские. Здесь уже чувствуются монгольские, китайские, японские очертания гор, крытых соснами, врезанными в небо, гор, выскакивающих почти отвесно из долины, совершенно плоской, как теннисная площадка. Особенно это становится характерно, пожалуй даже чудно, в Манчжурии, когда едешь от Харбина к югу. В одно окно вагона степь в роде черноморской (и китайцы в арбах запряженных волами), а с другой стороны с версту та же степь, но замкнута она забором гор.
И четко, точно на уроке географии, ползут, куда полагается, чисто вытесанные из камня горные хребты.
Средина ночи. Переваливаем Яблоновый хребет. Поезд буквально лезет на стену, задыхается. Слабосердные в вагонах тоже задыхаются. Перевал. Дальше спуск, что на салазках. Фьюуу — держи! Поезд катится так весело, что в нескольких местах устроен специальный тупик, взлетающий вверх. Если поезд у начала тупика не остановится и не докажет своей выдержки (за что ему откроют путь дальше, на Читу), то он ворвется в тупик, вскатит на гору, а потом назад опять на гору, и так пока не остановится.
Средина ночи. Переваливаем Яблоновый хребет. Поезд буквально лезет на стену, задыхается. Слабосердные в вагонах тоже задыхаются. Перевал. Дальше спуск, что на салазках. Фьюуу — держи! Поезд катится так весело, что в нескольких местах устроен специальный тупик, взлетающий вверх. Если поезд у начала тупика не остановится и не докажет своей выдержки (за что ему откроют путь дальше, на Читу), то он ворвется в тупик, вскатит на гору, а потом назад опять на гору, и так пока не остановится.
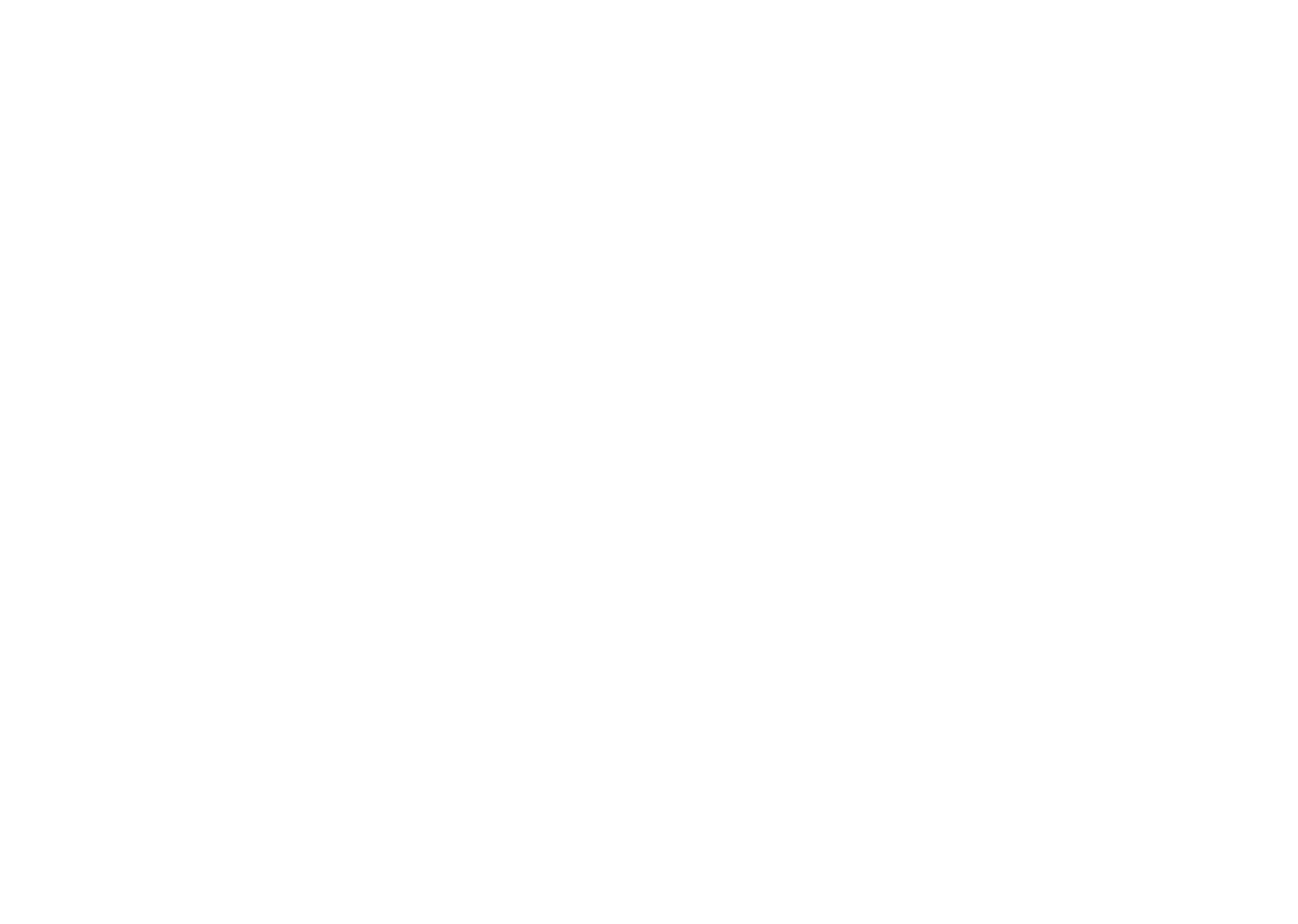
Чита
Берегитесь Читы. Во-первых, здесь вас ночью высадят из поезда (экспресс идет только до Читы), а затем, заперев все двери и щели в окрестных заборах, начнут пропускать в одну единственную багажную щель, где взвесят вашу кладь, и горе, если у вас будет более двух пудов — с вас возьмут сбор, а вдесятеро горе вам, если у вас пудом или более выше нормы — с вас взыщут десятикратный штраф. Удивляет только то, что об этом правиле узнаешь лишь около весов. Почему бы НКПС не объявить об этом повнятнее соответствующими наклейками в вокзальных помещениях и на стенах вагонов? Недоразумений было бы много меньше, и едущие соразмеряли вес своих чемоданов с правилами заранее.
Отмечаю еще одно. На Китайской ж. д. есть правило, что если пассажирский поезд приходит на конечную станцию ночью, то за три рубля пассажирам разрешается доночевать до 9 часов утра. Особенно это важно было бы в Чите, где гостиниц мало, они переполнены, и куча транзитных путешественников мечется на извощичьих колесницах от гостиницы к гостинице в предрассветном забайкальском морозе, хватающем вас, что там за нос да пальцы? — прямо за живот сквозь все одежи своими лягушачьими пальцами. Наконец, путешественники засыпают где-нибудь в проходе на оконной раме, чтоб через 12 часов ехать дальше. Я сам был свидетелем как двое иностранцев (в том числе мой немец) упорно и долго убеждали выскочившего в одной жилетке хозяина гостиницы пустить их — кончилось это впуском их в гостиничный коридор, по которому они гуляли до утра, репетируя статую командора. Чита все та же. Зимой песок, летом песок. Кругом сосна. Сама — со сна. Над ней величаво веют крылья вечности и гордое воспоминание о тех великодержавных временах, когда она была столицей могущественного государства, название которого умещалось в три буквы — ДВР. Сейчас самое воспоминание об этом государстве, с единственным функционировавшим в России Учредительным Собранием, (под литературными диспутами, на которых шла грызня за и против Маяковского в 1922 году зал этого собрания функционировал гораздо более оживленно) изглаживается из памяти старожилов, исчез с площади даже двухсаженный глобус, водруженный там в шестую годовщину Октября,
Отмечаю еще одно. На Китайской ж. д. есть правило, что если пассажирский поезд приходит на конечную станцию ночью, то за три рубля пассажирам разрешается доночевать до 9 часов утра. Особенно это важно было бы в Чите, где гостиниц мало, они переполнены, и куча транзитных путешественников мечется на извощичьих колесницах от гостиницы к гостинице в предрассветном забайкальском морозе, хватающем вас, что там за нос да пальцы? — прямо за живот сквозь все одежи своими лягушачьими пальцами. Наконец, путешественники засыпают где-нибудь в проходе на оконной раме, чтоб через 12 часов ехать дальше. Я сам был свидетелем как двое иностранцев (в том числе мой немец) упорно и долго убеждали выскочившего в одной жилетке хозяина гостиницы пустить их — кончилось это впуском их в гостиничный коридор, по которому они гуляли до утра, репетируя статую командора. Чита все та же. Зимой песок, летом песок. Кругом сосна. Сама — со сна. Над ней величаво веют крылья вечности и гордое воспоминание о тех великодержавных временах, когда она была столицей могущественного государства, название которого умещалось в три буквы — ДВР. Сейчас самое воспоминание об этом государстве, с единственным функционировавшим в России Учредительным Собранием, (под литературными диспутами, на которых шла грызня за и против Маяковского в 1922 году зал этого собрания функционировал гораздо более оживленно) изглаживается из памяти старожилов, исчез с площади даже двухсаженный глобус, водруженный там в шестую годовщину Октября,
глобус замечательный тем, что на нем не было Японии (художник то ли не рассчитал масштаба, то ли свел с этим дальневосточным ястребом горькие дальневосточные счеты).
Я глядел в песочное заляпанное вывесками по главной улице (на остальных улицах растут сосны) лицо Читы с тем глубоким чувством недоуменной нежности, с которым смотрят на трупик любимой тетушки.
Как забыть такие читинские казусы, как Учредительное Собрание, в котором фракция церковных приходов делает Правительству запрос: «Известно ли предсовмину, что товминпросом состоит идеолог футуризма Третьяков, и не означает ли это, что в школах взамен упраздненного закона божьего будут преподавать науку о футуризме?» Или, поднявшись во весь рост, длинный с лицом пророка Елисея («я был лысым»), возглашает представитель баптистов: «Известно ли предсовмину, что прошлым летом на Зее громом убило 7 коммунистов, и не видит ли он в сем перст божий?»
Теперь Чита нормальный советский провинциальный городишко, в котором скоро будут жить только жители, так как последние административные учреждения переводятся в Хабаровск. Непереезд их до сих пор объяснялся японским землетрясением. Какая связь между этими двумя вещами за недосугом не выяснил. Еще есть в Чите иностранцы и харбинские комиссионеры. Они по инерции наезжают в столицу купить — продать, но так как монополия наглухо защелкнула границу для чистой торговли, то они по той же инерции сидят в гостиницах, поварчивают и лупятся в карты часов с восьми утра. Такую харбинскую пару я видел своими глазами: на них были очки с добрый велосипед, голова впряжена в эти очки двумя роговыми оглоблями, в зубах трубки, пиджаки в талию и лица — ну, вылитые два Пильняка, до такой степени эти лица были английские! Молча лупили по столу королями и тузами, а затем тасуя колоду один произнес: «Вы водку вчера пили?» с самым добрым харбинским произношением. Чуть не забыл — на Дальнем Востоке в наследие от великой державы ДВР осталась еще водка самая сорокаградусная.
Сообщаю для сведения (сам не пью, так что мне это безразлично).
Я глядел в песочное заляпанное вывесками по главной улице (на остальных улицах растут сосны) лицо Читы с тем глубоким чувством недоуменной нежности, с которым смотрят на трупик любимой тетушки.
Как забыть такие читинские казусы, как Учредительное Собрание, в котором фракция церковных приходов делает Правительству запрос: «Известно ли предсовмину, что товминпросом состоит идеолог футуризма Третьяков, и не означает ли это, что в школах взамен упраздненного закона божьего будут преподавать науку о футуризме?» Или, поднявшись во весь рост, длинный с лицом пророка Елисея («я был лысым»), возглашает представитель баптистов: «Известно ли предсовмину, что прошлым летом на Зее громом убило 7 коммунистов, и не видит ли он в сем перст божий?»
Теперь Чита нормальный советский провинциальный городишко, в котором скоро будут жить только жители, так как последние административные учреждения переводятся в Хабаровск. Непереезд их до сих пор объяснялся японским землетрясением. Какая связь между этими двумя вещами за недосугом не выяснил. Еще есть в Чите иностранцы и харбинские комиссионеры. Они по инерции наезжают в столицу купить — продать, но так как монополия наглухо защелкнула границу для чистой торговли, то они по той же инерции сидят в гостиницах, поварчивают и лупятся в карты часов с восьми утра. Такую харбинскую пару я видел своими глазами: на них были очки с добрый велосипед, голова впряжена в эти очки двумя роговыми оглоблями, в зубах трубки, пиджаки в талию и лица — ну, вылитые два Пильняка, до такой степени эти лица были английские! Молча лупили по столу королями и тузами, а затем тасуя колоду один произнес: «Вы водку вчера пили?» с самым добрым харбинским произношением. Чуть не забыл — на Дальнем Востоке в наследие от великой державы ДВР осталась еще водка самая сорокаградусная.
Сообщаю для сведения (сам не пью, так что мне это безразлично).
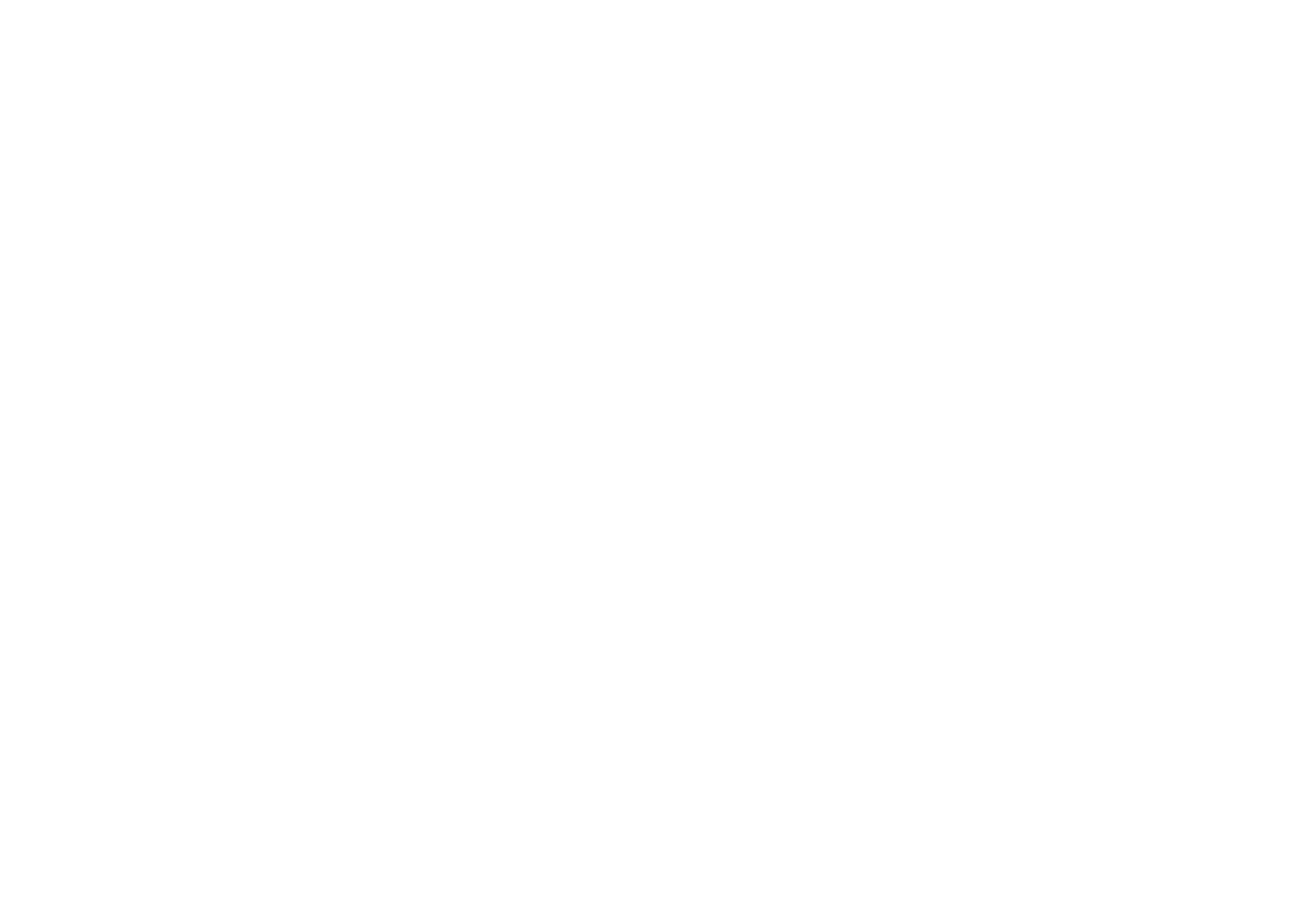
Перешаг
Уже снежная с выдутыми ветром пескошинами — степь.
Мимо — Даурия и другие еще пахнущие кровью семеновских нагаек станции. Мациевская — проверка документов. Мой немец висит на волоске — его документ истекает сроком через несколько часов. Притих. Пронесло.
Мимо — Даурия и другие еще пахнущие кровью семеновских нагаек станции. Мациевская — проверка документов. Мой немец висит на волоске — его документ истекает сроком через несколько часов. Притих. Пронесло.
Таможенный досмотр. Вопрос: не везете ли пушнины и золотой монеты? Никак не переведу немцу слова — пушнина, тычу в баранью подкладку моей куртки — немец не понимает. Мне смешно — таможенникам подозрительно. Окончилось и это. Через 15 минут Манчжурия. Степь уходит туда, в даль, в пустыню Гоби. Длиннейшая в самый горизонт вколовшаяся канава — граница Китая и России.
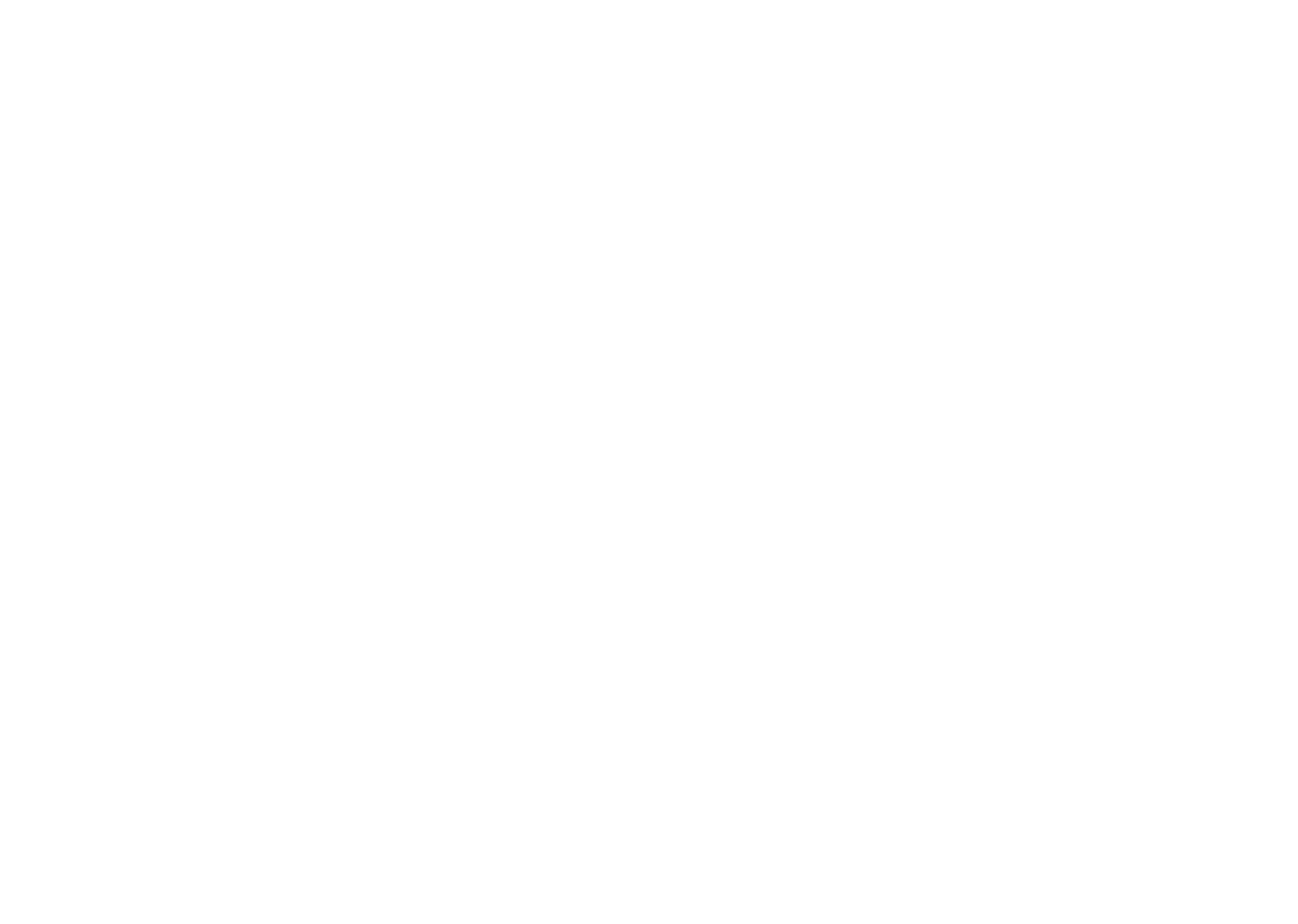
Манчжурия
На перроне китайские солдаты в сером и офицеры, на которых кофты кителя животом вперед и узкие в плечах. Поперечные погончики-перемычки. У дверей вагона караул.
По перрону охрана КВЖД, точные городовые — черная шинель, селедка, фуражка с каким-то капустным листом над козырьком. И физиономии — что надо. Белая гвардия.
Лощеный русский — чиновник китайской таможни с офицером-китайцем просматривает паспорта. Пока весь поезд не осмотрят — не впустят. Знакомый нос расплющился, как стеариновый, с перрона в окно. Объясняемся руками. Теперь в вагонах не досматривают клади — идите в зал, там длинные потрошильные столы. Растет груда дипломатических за печатями корзин мистера Блинча. Мистер бросает пренебрежительно-спокойные слова «Иэс». Китайцы галдят, жмутся к корзинам, вертят печати. Я чувствую, как в лице буденовского военкома здесь, среди шныряющих белогвардейских шпионов, сама СССР непоколебимо и спокойно оберегает неприкосновенность своего герба.
Меня тормошили недолго, но подозрительно. Вся заботливо сложенная требуха разворочена, как кишки ядром. Из-под белья извлекают книгу мою, стихи и долго вертят подозрительно. Ищут журналов. Ищут не столько для пресечения пропаганды (какая уж тут пропаганда, когда левые харбинские газеты полностью воспроизводят статьи и снимки из московской прессы), а просто журнальчики посмотреть хочется.
По перрону охрана КВЖД, точные городовые — черная шинель, селедка, фуражка с каким-то капустным листом над козырьком. И физиономии — что надо. Белая гвардия.
Лощеный русский — чиновник китайской таможни с офицером-китайцем просматривает паспорта. Пока весь поезд не осмотрят — не впустят. Знакомый нос расплющился, как стеариновый, с перрона в окно. Объясняемся руками. Теперь в вагонах не досматривают клади — идите в зал, там длинные потрошильные столы. Растет груда дипломатических за печатями корзин мистера Блинча. Мистер бросает пренебрежительно-спокойные слова «Иэс». Китайцы галдят, жмутся к корзинам, вертят печати. Я чувствую, как в лице буденовского военкома здесь, среди шныряющих белогвардейских шпионов, сама СССР непоколебимо и спокойно оберегает неприкосновенность своего герба.
Меня тормошили недолго, но подозрительно. Вся заботливо сложенная требуха разворочена, как кишки ядром. Из-под белья извлекают книгу мою, стихи и долго вертят подозрительно. Ищут журналов. Ищут не столько для пресечения пропаганды (какая уж тут пропаганда, когда левые харбинские газеты полностью воспроизводят статьи и снимки из московской прессы), а просто журнальчики посмотреть хочется.
Я потом в комендантской видел, с каким азартом китайские солдаты и таможенники рассматривали картинки в «Красной Ниве», «Огоньке» и «Прожекторе», а особенно снимки с похорон В. И. Ленина.
С деньгами опять нелады. На дороге ходят и доллары, и иены. Китайский доллар — даян несколько дороже японской иены (на пятачок примерно), но касса станции примет всякую иную, кроме доллара, валюту с хорошей выгодой для себя. А разменной кассы нет. А в буфете уже идет иена, и долларами платить невыгодно. Дальше в глубь Китая этот финансовый вопрос осложнится еще более, но об этом впереди. Сквозной билет до Пекина — 128,85 даянов, а 2-го — 66 с лишком. Есть и обратные билеты — их цена вдвое, и скидка 20 %. Ждать в Манчжурии всего 2 часа. Наложен китайский штемпель на паспорт, взыскан полтинник и — катись на Восток.
Я не знаю, есть ли на свете поезда чище, чем на Китайской Восточной ж. д. Везде половички. Медь сияет, радуется, клозеты, как алтари; проводник, у которого пуговиц больше, чем красных кровяных шариков, бесшумно проходит то и дело чтоб поднять брошенную каким-нибудь троглодитом спичку, ниточку, соринку, если только ее можно увидеть простым глазом. Почему такая чистота? А, может быть, потому, что, кроме этого, дороге сейчас нечем и заниматься? Она — как пересохшее русло, какая-то железнодорожная слепая кишка. Ведь, она — мост между Москвой и Владивостоком. А теперь, до поры до времени, этот мост объезжают в брод по Амурской дороге.
С деньгами опять нелады. На дороге ходят и доллары, и иены. Китайский доллар — даян несколько дороже японской иены (на пятачок примерно), но касса станции примет всякую иную, кроме доллара, валюту с хорошей выгодой для себя. А разменной кассы нет. А в буфете уже идет иена, и долларами платить невыгодно. Дальше в глубь Китая этот финансовый вопрос осложнится еще более, но об этом впереди. Сквозной билет до Пекина — 128,85 даянов, а 2-го — 66 с лишком. Есть и обратные билеты — их цена вдвое, и скидка 20 %. Ждать в Манчжурии всего 2 часа. Наложен китайский штемпель на паспорт, взыскан полтинник и — катись на Восток.
Я не знаю, есть ли на свете поезда чище, чем на Китайской Восточной ж. д. Везде половички. Медь сияет, радуется, клозеты, как алтари; проводник, у которого пуговиц больше, чем красных кровяных шариков, бесшумно проходит то и дело чтоб поднять брошенную каким-нибудь троглодитом спичку, ниточку, соринку, если только ее можно увидеть простым глазом. Почему такая чистота? А, может быть, потому, что, кроме этого, дороге сейчас нечем и заниматься? Она — как пересохшее русло, какая-то железнодорожная слепая кишка. Ведь, она — мост между Москвой и Владивостоком. А теперь, до поры до времени, этот мост объезжают в брод по Амурской дороге.
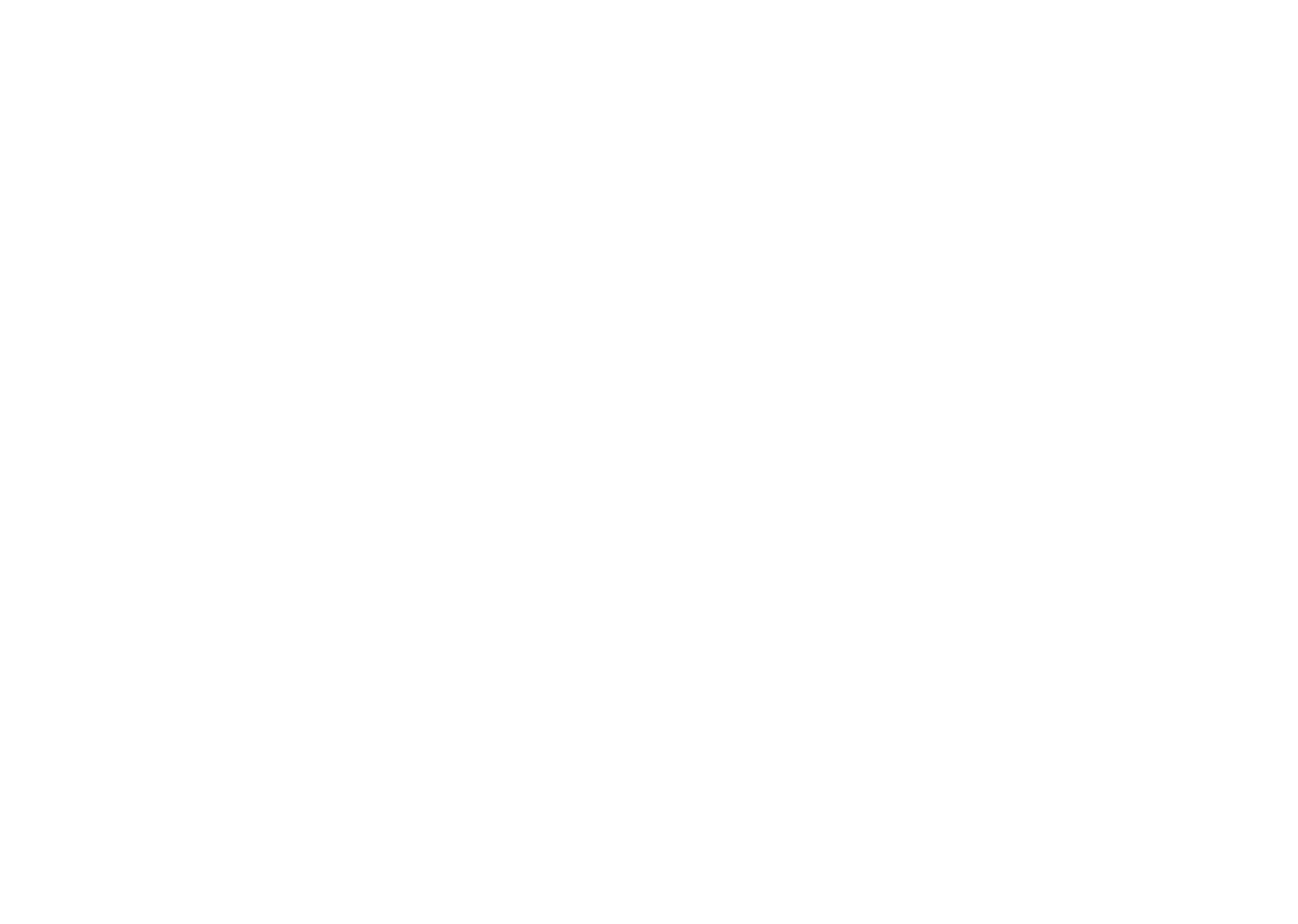
КВЖД
Вместо валенок — мягкие туфли. Вместо нагольных тулупов — юбки китайских синих и черных халатов. Вместо папах — полушария тубетеек с шишечкой, вместо кудл бородастых реснички усов, а то и гладкое безусье под пологим точно к лицу притоптанным друствольным монгольским носом.
На станциях поезд встречает редкая цепь караулов. Это чжанцзолиновские солдаты — лучшие в Китае, потому что они хоть одеты (а то под Тяньцзином мне приходилось встречать солдат в долгополых халатах — только погоны да фуражка форменные). Значатся они на станциях для защиты от хунхузов. Хунхузы же это по существу китайское Запорожье; только раскиданное повсюду. Китайская армия первый поставщик живого люда в хунхузские отряды. Лето — солдат идет в хунхузы. Зима — он возвращается в армию. Разница только та, что, будучи солдатом, он крайне робок и небоеспособен, в хунхузах же он храбр и отважен, как зверь.
В вагон садится важный китайский чиновник, при нем сопровождающие китайские полисмены — пояс утыкан патронами: с одной стороны, деревянным окороком маузер, с другой — браунинг. Говорят, что этак вооруженные люди при нападении легко гибнут: выбор оружия огромный, а за что ухватиться не знают.
Входят еще китайцы — видно из степенных купцов или чиновных выжиг. Увидев знакомого, смыкают ладонь в ладонь (рукопожатий у китайцев нет) и отвешивают три поклона.
На станциях поезд встречает редкая цепь караулов. Это чжанцзолиновские солдаты — лучшие в Китае, потому что они хоть одеты (а то под Тяньцзином мне приходилось встречать солдат в долгополых халатах — только погоны да фуражка форменные). Значатся они на станциях для защиты от хунхузов. Хунхузы же это по существу китайское Запорожье; только раскиданное повсюду. Китайская армия первый поставщик живого люда в хунхузские отряды. Лето — солдат идет в хунхузы. Зима — он возвращается в армию. Разница только та, что, будучи солдатом, он крайне робок и небоеспособен, в хунхузах же он храбр и отважен, как зверь.
В вагон садится важный китайский чиновник, при нем сопровождающие китайские полисмены — пояс утыкан патронами: с одной стороны, деревянным окороком маузер, с другой — браунинг. Говорят, что этак вооруженные люди при нападении легко гибнут: выбор оружия огромный, а за что ухватиться не знают.
Входят еще китайцы — видно из степенных купцов или чиновных выжиг. Увидев знакомого, смыкают ладонь в ладонь (рукопожатий у китайцев нет) и отвешивают три поклона.
Японцы, одетые в европейское, отчего они еще меньше ростом (и так с 9-10-летнего парнишку), в особо высоких крахмальных воротничках, гурьбой проходят в вагон-ресторан.
Кормят дешево и сытно за 60 сен (сена — чуть поменьше золотой копейки). В движениях лакеев, жонглирующих посудой, то рефлекторное холуйство, которого в России с 1917 года ни в каком, самом даже паскудном, вертепе уже не встретишь.
Газеты — «Заря», «Русский Голос», «Свет» и (который уже год) упования черносотенных передовиц на то, что в будущем году обязательно въедет в Россию какой-нибудь профессионал-претендент, пусть даже не на белом коне, а на велосипеде, но только въедет. Не в пример 22-му году Роста даже без комментариев уже занимает в этих газетах изрядное место. А дальше пестрят объявления о гастролях, кабачках, спектаклях. Газеты разрываются, устраивая бум той или иной «блестящей звезде театрального горизонта».
При чем изобилуют такие объявления — «Интимный вечер настроений и лирических переживаний» NN усладят харбинскую публику своими чарующими мелодиями. Дамам вход бесплатный». Ничего не поделаешь — приходится прятать голову под подушку «изящных настроений», а уши окунать в «бархатные мелодии», чтобы не завыть голодным безнадежным псом на голую луну бесстыжей и жестокой правды.
Взлезаем на Хинган. Высоко, холодно, звездно. Опять прокол туннеля, и поезд быстро скатывается в долину по знаменитой петле (как велосипедист по склону трека), делая полный круг и выскакивая на волю в проход под насыпью, по которой он только что грохотал.
Кормят дешево и сытно за 60 сен (сена — чуть поменьше золотой копейки). В движениях лакеев, жонглирующих посудой, то рефлекторное холуйство, которого в России с 1917 года ни в каком, самом даже паскудном, вертепе уже не встретишь.
Газеты — «Заря», «Русский Голос», «Свет» и (который уже год) упования черносотенных передовиц на то, что в будущем году обязательно въедет в Россию какой-нибудь профессионал-претендент, пусть даже не на белом коне, а на велосипеде, но только въедет. Не в пример 22-му году Роста даже без комментариев уже занимает в этих газетах изрядное место. А дальше пестрят объявления о гастролях, кабачках, спектаклях. Газеты разрываются, устраивая бум той или иной «блестящей звезде театрального горизонта».
При чем изобилуют такие объявления — «Интимный вечер настроений и лирических переживаний» NN усладят харбинскую публику своими чарующими мелодиями. Дамам вход бесплатный». Ничего не поделаешь — приходится прятать голову под подушку «изящных настроений», а уши окунать в «бархатные мелодии», чтобы не завыть голодным безнадежным псом на голую луну бесстыжей и жестокой правды.
Взлезаем на Хинган. Высоко, холодно, звездно. Опять прокол туннеля, и поезд быстро скатывается в долину по знаменитой петле (как велосипедист по склону трека), делая полный круг и выскакивая на волю в проход под насыпью, по которой он только что грохотал.
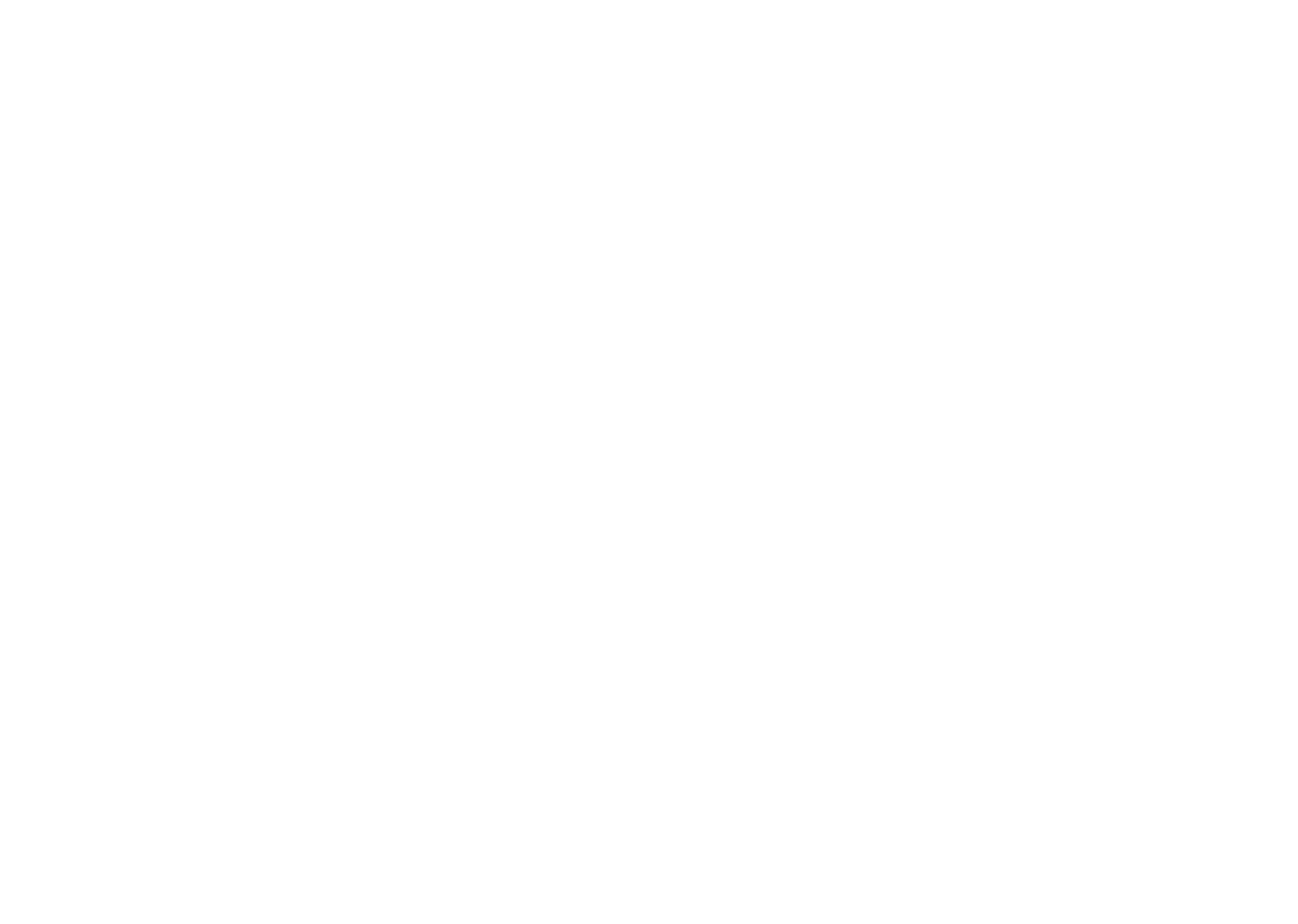
Харбин
Он сейчас спит тяжелым коммерческим сном. Он ожирел от товаров, но их негде продавать. Витрины полны, склады забиты, а денег нет — монополия Внешторга и непризнание СССР держит Харбин за горло. Это город дешовки.
Великолепные ботинки за 5 иен. Мужской костюм за 20 иен. А к новому году лопнуло до 90 китайских фирм. Русские харбинцы питаются плохо — больше слухами.
Так, меня всерьез спросили: «Верно ли, будто после смерти Ленина Буденный с армией обложил Москву и требовал сдачи» — Какой сдачи, для чего сдачи, чьей сдачи? — «Вот мы и сами, — говорят, — не поймем».
Великолепные ботинки за 5 иен. Мужской костюм за 20 иен. А к новому году лопнуло до 90 китайских фирм. Русские харбинцы питаются плохо — больше слухами.
Так, меня всерьез спросили: «Верно ли, будто после смерти Ленина Буденный с армией обложил Москву и требовал сдачи» — Какой сдачи, для чего сдачи, чьей сдачи? — «Вот мы и сами, — говорят, — не поймем».
Мне стало вдруг очень весело.
А другой харбинец, очень лойяльный по отношению к СССР человек, вполне грамотный и ежедневно читающий газеты, отведя меня в угол от знакомых, которым я рассказывал о России, спросил честно и напряженно: « — а теперь скажите по совести, никто не услышит, крепко вы голодали».
И когда я снова засмеялся, то понял, что в его глазах я почти святой, герой и мученик, который даст себя зарезать, но ни за что не поведает тайны о том, что в Москве если и едят что-нибудь так разве сушеных мух по воскресениям.
Моссельпром! Слышишь!?
А другой харбинец, очень лойяльный по отношению к СССР человек, вполне грамотный и ежедневно читающий газеты, отведя меня в угол от знакомых, которым я рассказывал о России, спросил честно и напряженно: « — а теперь скажите по совести, никто не услышит, крепко вы голодали».
И когда я снова засмеялся, то понял, что в его глазах я почти святой, герой и мученик, который даст себя зарезать, но ни за что не поведает тайны о том, что в Москве если и едят что-нибудь так разве сушеных мух по воскресениям.
Моссельпром! Слышишь!?
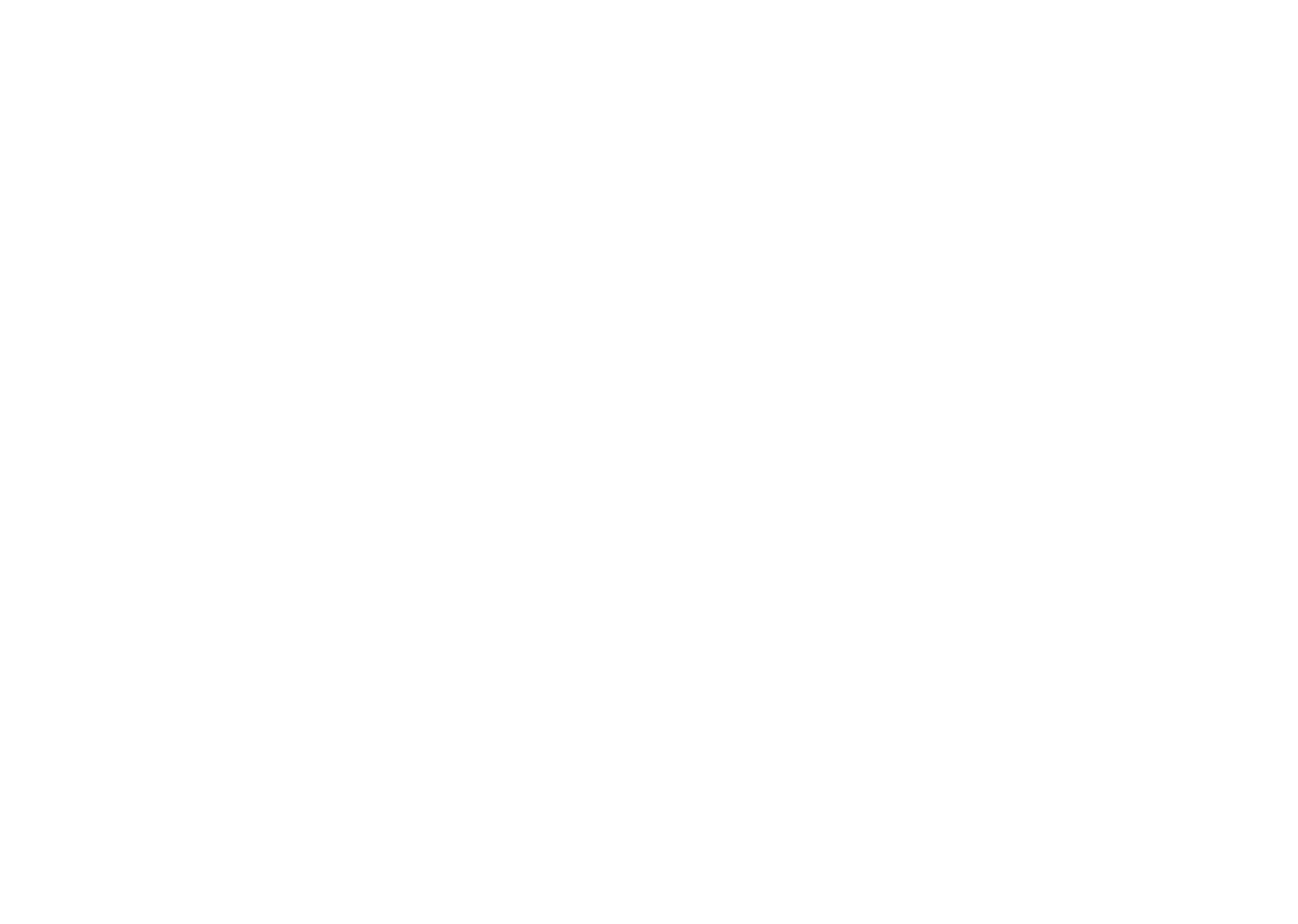
Погромить прикажете?
В день моего приезда Харбин был в панике, ожидая китайского погрома. Китайцы вели агитацию против начальника дороги Остроумова, ходя демонстрациями, и требуя его удаления, а заодно покрикивая что-то и вообще о купании русских в реке Сунгари. Подоплека этого «народного движения» состоит, как мне передавали, в том, что манчжурский диктатор, обеспокоенный возможностью признания СССР Пекинским правительством и перспективой учреждения советско-китайского управления дорогой, решил спешно китаизировать дорогу де-факто, сместив Остроумова и тем отрезая советской власти путь к участию в управлении дорогой.
Почему?
А стоит только вспомнить, что дорога — приют всех белогвардейцев — и активных и пассивных. Рабочих выгоняли со службы, чтобы посадить на их место офицеров.
Почему?
А стоит только вспомнить, что дорога — приют всех белогвардейцев — и активных и пассивных. Рабочих выгоняли со службы, чтобы посадить на их место офицеров.
А те убыточные перевозки войск и грузов, которые дорога производила по приказам Мукдена? Контроль Совроссии над дорогой — это прежде всего, неизбежная чистка, а во-вторых, обнаружение воочию всех белогвардейско-японско-мукденских махинаций, для которых она была надежнейшим трамплином, начиная с 1918 года. Организовать «народный гнев» было нетрудно. Одни разоренные китайские фирмы, обычно состоящие из 10–15 мелких пайщиков, давали кадр демонстрантов до 1500 человек.
Услужливые руки собирали эти толпы, услужливые рты говорили зажигательные речи, обвиняя Остроумова в гибели китайской торговли, те же рты посулили по двугривенному на рыло и угощение.
Но каков же был скандал, когда, вернувшись после демонстрации, «народные негодователи» констатировали отсутствие и двугривенных, и угощения.
Пять дней молчали харбинские китайские власти в ответ на тревожные запросы русских и лишь после решительных настояний, разродились объявлением о том, что граждане могут спать спокойно.
Услужливые руки собирали эти толпы, услужливые рты говорили зажигательные речи, обвиняя Остроумова в гибели китайской торговли, те же рты посулили по двугривенному на рыло и угощение.
Но каков же был скандал, когда, вернувшись после демонстрации, «народные негодователи» констатировали отсутствие и двугривенных, и угощения.
Пять дней молчали харбинские китайские власти в ответ на тревожные запросы русских и лишь после решительных настояний, разродились объявлением о том, что граждане могут спать спокойно.
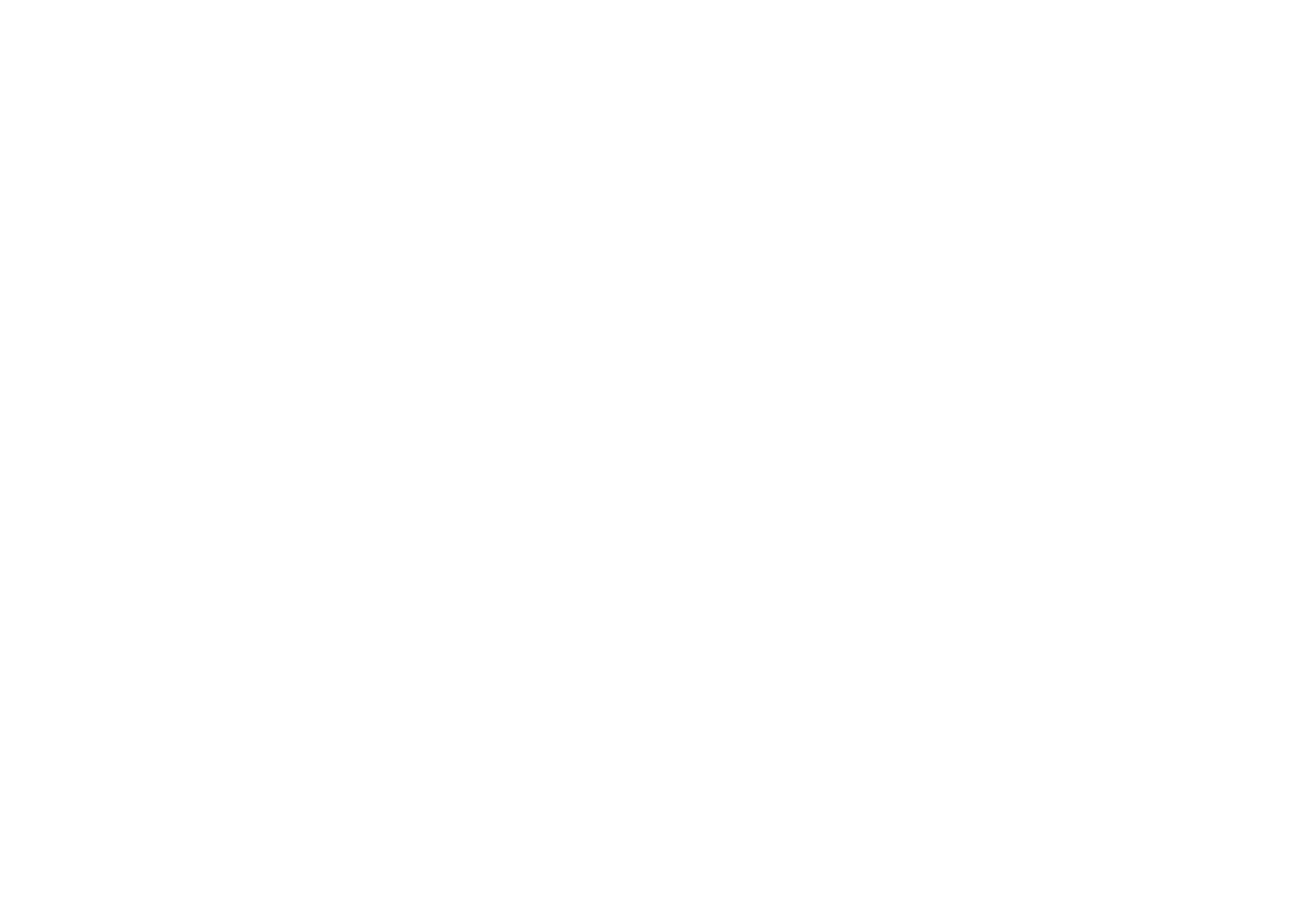
Кальсоны
(Китайская драма)
Действующие лица: две пары кальсон, фуфайка, продавщица галантереи, китаец-сапожник и путешественник. Место действия — харбинская улица. Путешественник покупает кучу вещей и тащит их двумя пакетами. Путешественник сторговывает у сапожника ботинки, но их надо чуть растянуть, что продлится 20 минут, а поезд идет через час, а покупки еще не все сделаны. Путешественник оставляет два свертка у сапожника, идет покупать еще кучу вещей и с оказией отправляет их прямо к себе на дом для укладки в чемодан. Путешественник возвращается к сапожнику и обнаруживает исчезновение свертка с двумя парами кальсон. Китаец, взявший свертки на хранение, сообщает, что сверток (вероятно, по ошибке) взяла только что заходившая дама. Путешественник честно трет лоб и вспоминает, что в свертке было две пары кальсон (хорошо еще, что не дюжина золотых часов). Китаец идет с путешественником в Кальсонторг, платит за две пары кальсон и уговаривается с магазином, что в случае если женщина, взявшая кальсоны — честная, то по возврате магазин их примет и вернет китайцу деньги.
Магазин в восторге от такого систематического покупания кальсон и делает ему скидку на все 4 пары кальсон. Покупатель делится скидкой с китайцем.
Потом покупатель нанимает драндулет-двуколку, везомую лошадью, ростом и косматостью равною псу-водолазу, и выкачивает свою душу динамичнейшим (4 дрыга в секунду) урбанистическим ритмом драндулета, медленно мчась к своим чемоданам. Путешественник садится в вагон, разворачивает свертки, дабы наслаждаться чувством собственности и обнаруживает у себя 4 пары кальсон и ни одной фуфайки.
Результат: путешественник без фуфайки.
Китаец без кальсон и выплаченных денег.
Даму подозревают в сокрытии кальсон и замене их дешевой фуфайкой.
Магазин с чистой прибылью за четыре пары кальсон.
Занавес. Доклад Шкловского о свертывании, завертывании и развертывании сюжета.
Потом покупатель нанимает драндулет-двуколку, везомую лошадью, ростом и косматостью равною псу-водолазу, и выкачивает свою душу динамичнейшим (4 дрыга в секунду) урбанистическим ритмом драндулета, медленно мчась к своим чемоданам. Путешественник садится в вагон, разворачивает свертки, дабы наслаждаться чувством собственности и обнаруживает у себя 4 пары кальсон и ни одной фуфайки.
Результат: путешественник без фуфайки.
Китаец без кальсон и выплаченных денег.
Даму подозревают в сокрытии кальсон и замене их дешевой фуфайкой.
Магазин с чистой прибылью за четыре пары кальсон.
Занавес. Доклад Шкловского о свертывании, завертывании и развертывании сюжета.
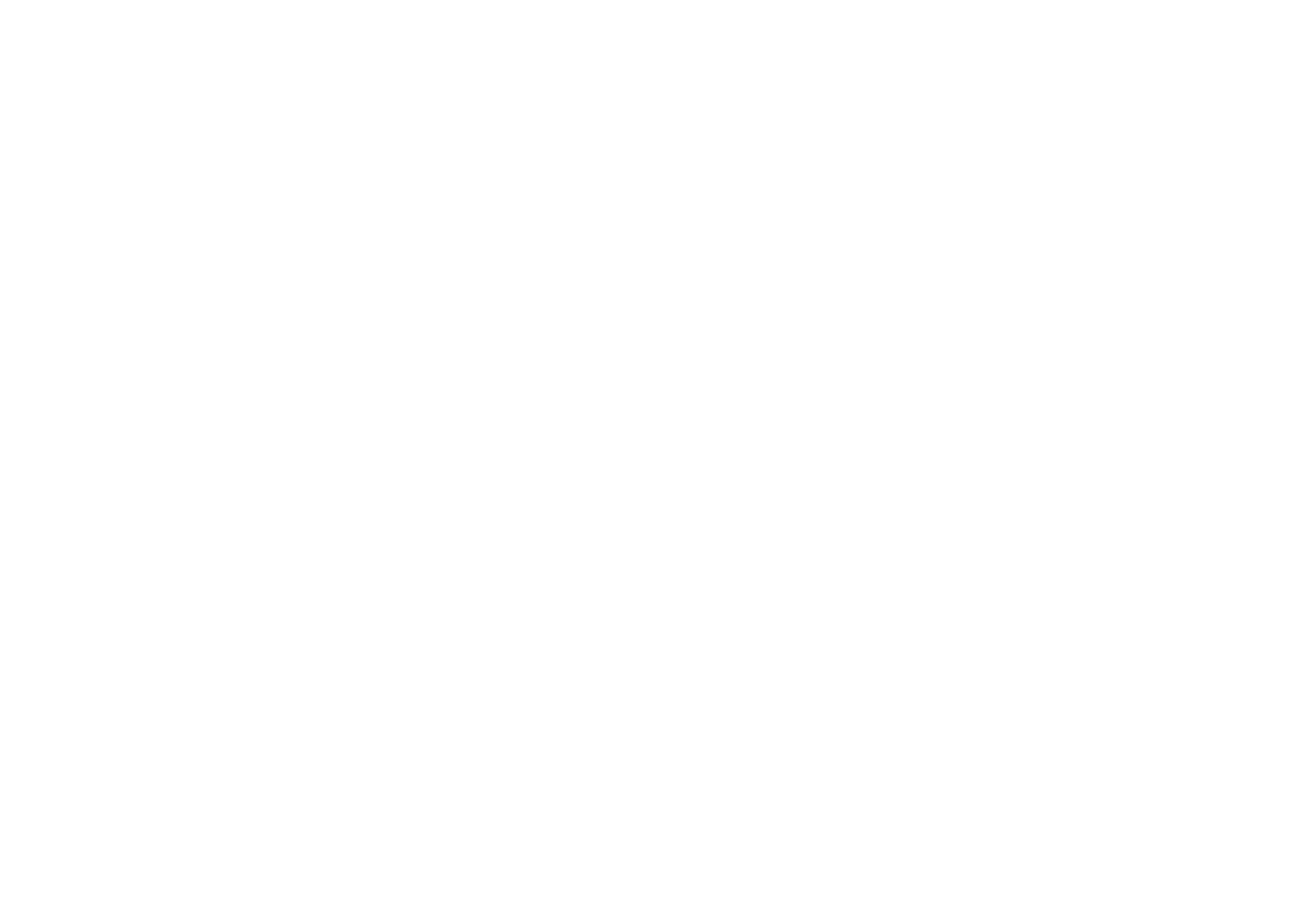
Комбинат из трех
Харбинец задает вопрос:
— У вас в Москве поэт Владимир Виленский считается выше Маяковского, или наравне?
— А что?
— Так вот, недавно тут он лекцию читал о русском искусстве, а потом стихи декламировал. Харбинские мамаши на него в претензии, потому что он специальное неприличное стихотворение читал такого примерно смысла: «харбинские девушки приходите ко мне по такому-то адресу, я принимаю от стольких часов до стольких». Так харбинцы думают, что Маяковскому до него далеко.
— У вас в Москве поэт Владимир Виленский считается выше Маяковского, или наравне?
— А что?
— Так вот, недавно тут он лекцию читал о русском искусстве, а потом стихи декламировал. Харбинские мамаши на него в претензии, потому что он специальное неприличное стихотворение читал такого примерно смысла: «харбинские девушки приходите ко мне по такому-то адресу, я принимаю от стольких часов до стольких». Так харбинцы думают, что Маяковскому до него далеко.
Обычная история с провинциальной халтуркой и расхожим эпатажиком пятикопеечного свойства. Воображаю какое это было русское искусство, показанное Харбину. Обставлено дело было по всем правилам — газеты заранее трубили о том, что едет: «Единый Комбинат Российских Мастеров». (Если я немного перепутал названия — думаю, что Виленский не преминет исправить в письме в редакцию; однако, за «комбинат» и за «мастеров» ручаюсь.)
Комбинат этот был из трех: Виленский и еще два существа — одно пело, другое играло. После вечера Виленский проследовал дальше, а существа осели в Харбине и, надо думать, занялись «интимными настроениями» и «бархатными мелодиями». Тяжело теперь придется Маяковскому, если вздумает приехать в Харбин.
Что ему останется сказать харбинским девушкам? Чем ему потрясти харбинских мамаш?
Комбинат этот был из трех: Виленский и еще два существа — одно пело, другое играло. После вечера Виленский проследовал дальше, а существа осели в Харбине и, надо думать, занялись «интимными настроениями» и «бархатными мелодиями». Тяжело теперь придется Маяковскому, если вздумает приехать в Харбин.
Что ему останется сказать харбинским девушкам? Чем ему потрясти харбинских мамаш?
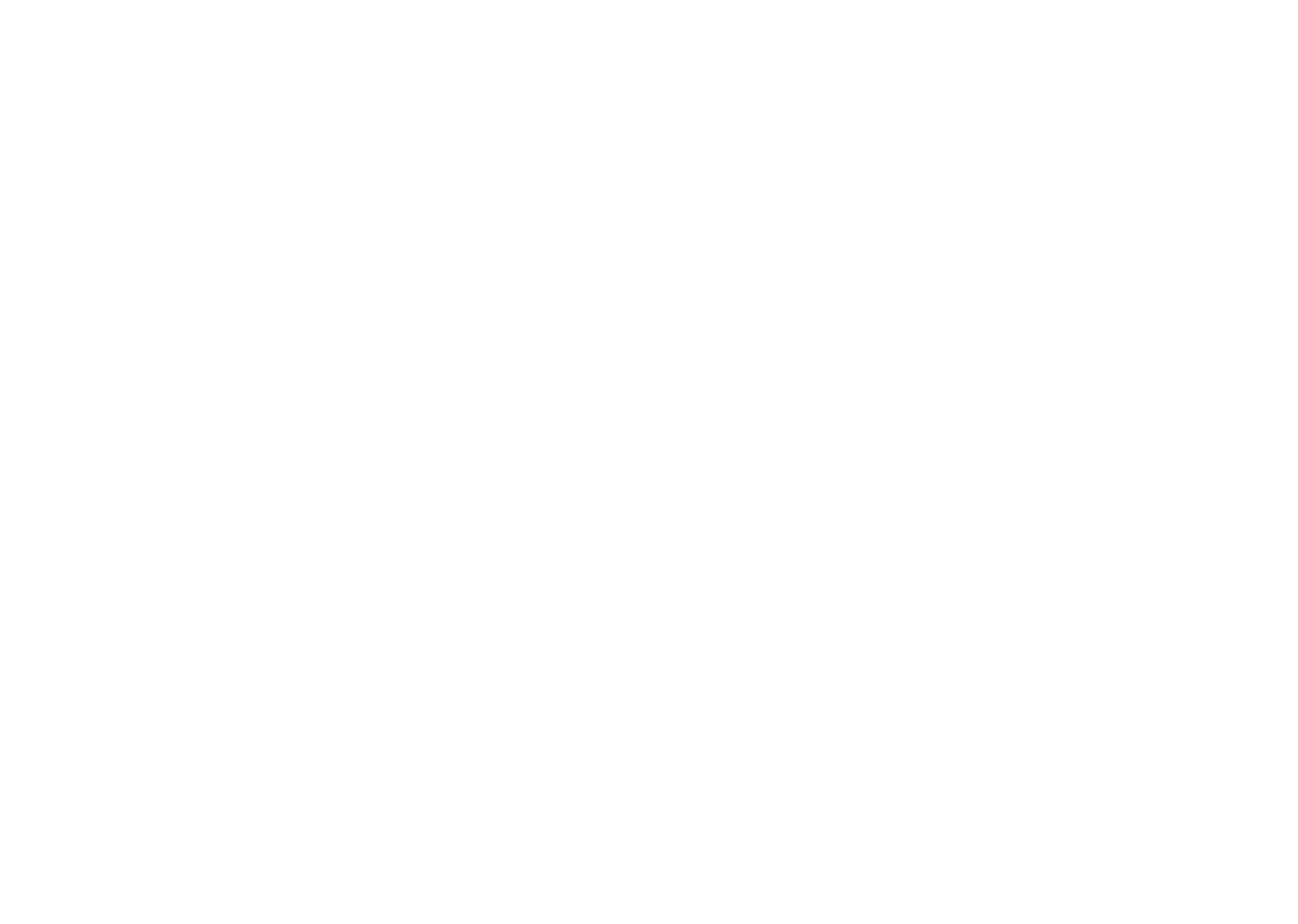
На юг
Отвалив от Харбина с его дымучими фабричными трубами заваливающегося за бугор горизонта, едем манчжурской равниной. Китайские мызы обнесены высокими стенами.
Еще выше — стены иностранных концессий, плантаций и заводов. Берегутся от хунхузов. Здесь заселенность небольшая. Мызы стоят редко, деревень не видать. Здесь еще крепкая зима, но солнце бьет в окно вагона, как апрельский озорник.
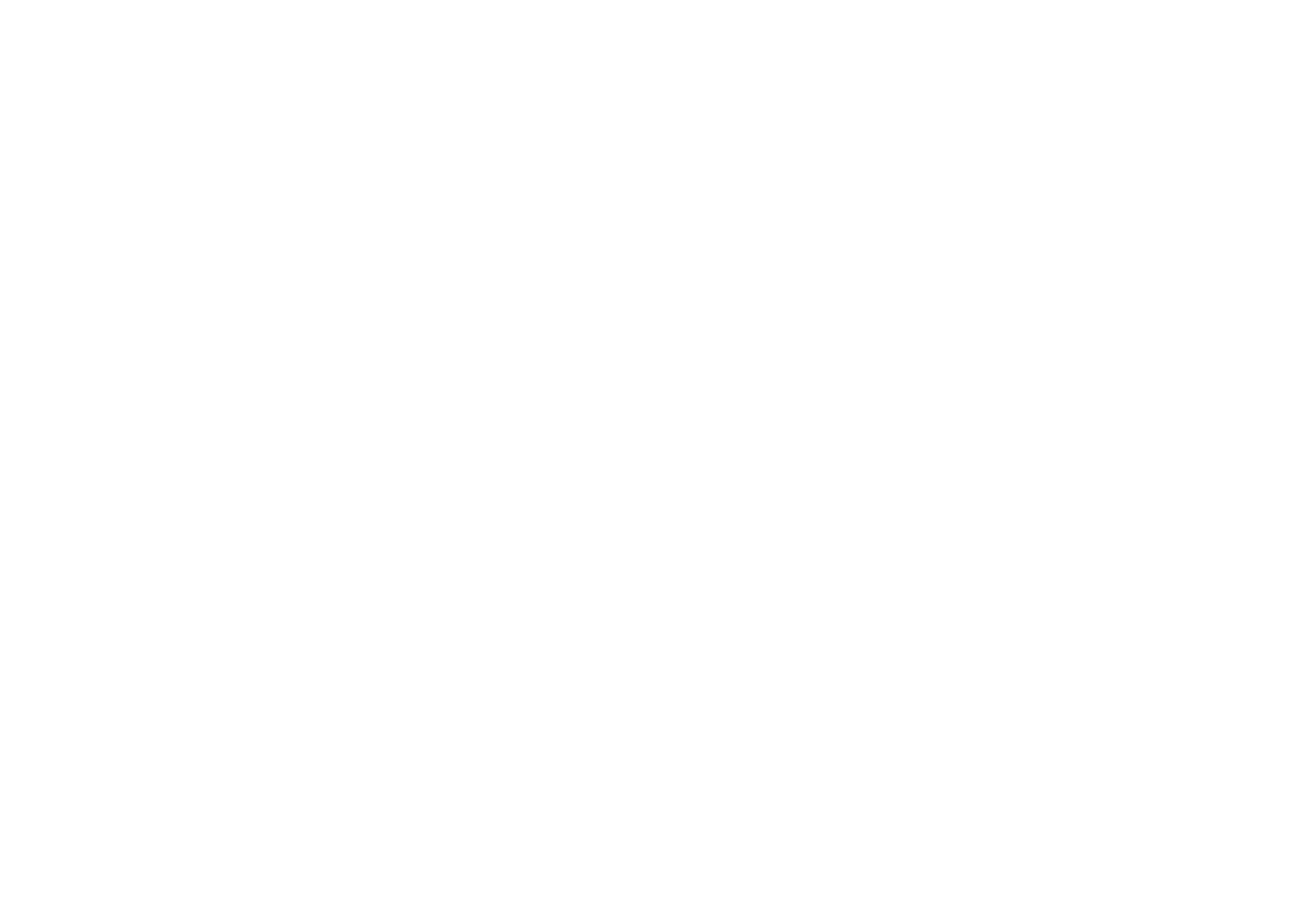
Чань Чунь
Проверка паспортов. Смена поездов. Несем баулы на вокзал, сросшийся с гостиницей так, что дальше не разберешь, где кончается вокзал и начинается гостиница, носящая имя Ямато-Отель. Баулы дипкурьера немедленно примагничивают к себе двух русских шпиков с отнюдь не миловидными физиономиями. Подняв воротники, они недоступны — попробуй зазеваться над портфелем! Мистер Блинч вспоминает прошлогодние попытки, когда подобные субъекты относились к нему не только созерцательно. Был случай, когда они осаждали его пока он завтракал, один с тыла, а другой в лоб, держа руки в кармане и выжидая удобного момента для нападения. Пришлось мистеру встать и, поиграв мышцами, тоже сунув руку в карман, перейти в молчаливое контрнаступление — удалились. А другой раз пришлось вынуть и положить на стол браунинг — субъекты зауважали и вычистились вон. Пытаемся поужинать — разговор только по английски, да и то бой-лакей японец понимает его лишь в пределах названий блюд. Сидящий неподалеку тучный русский орет бою — «хам». Вы думаете, он ругается? Нет, он требует ветчины. Поезд подан. Вносим вещи в вагон — темно. В углу копошатся субъекты. Вагон без купэ, спинки у диванчиков низкие, на диванчиках (можно вытянуться) полагается по одному человеку. Между каждыми двумя скамейками — большая плевательница — плюют здесь много, часто и с азартом. Проходят японцы — у многих на носу ватный треугольник — это маска от заразы, главным образом от инфлуэнцы-испанки.
— Они от этой болезни мрут чуть не в сутки и притом в огромном количестве. То и дело вваливаются китайцы с чадами и домочадцами и провожатыми.
— Они от этой болезни мрут чуть не в сутки и притом в огромном количестве. То и дело вваливаются китайцы с чадами и домочадцами и провожатыми.
Сядет китаец, сына посадит (жена стоит, жена существо низшего сорта, ниже сына — о здоровье жены спросить китайца, значит жестоко его оскорбить). Посидит, вещи разложит, является японец-проводник, начинается лопотня рукомаха, а потом китаец забирает вещи и уходит. Оказывается не в свой класс попали — надо в третий. Этот классовый вопрос буквально через каждые пять минут. Какой-то китаец из чиновных, выходя из вагона, не закрыл за собой дверь. Один из наших субъектов, сидевший у двери, резко захлопнул ее.
Китаец обиделся, вернулся. Началась ругань. Я понял, что китаец говорит об аресте и полиции, но русский, развалясь на диванчике (территория, ведь, японская уже), бесцеремоннейшим тоном парировал его нажим: «Наша ваша не боится. Ваша дверь не закрывает. Чего ваша кричи!» Получилось нечто в роде отыгрыша за харбинские демонстрации против Остроумова. Снова японский полицейский в сопровождении субъекта просматривает паспорта и делает отметки в книжке. Выходят. В дверях субъект оборачивается: «Которого числа вы выехали из Москвы»? Отвечаю — «Четырнадцатого». Мистер Блинч меня упрекает — «Охота отвечать. — Вы этого не обязаны делать. Это он перед японским полицейским фасон гнет». Охотно соглашаюсь — в следующий раз оставлю субъекта без ответа. Субъект, что ругался у двери с китайцем, уступает свое место русскому толстяку (толщиною с доброго полковника). Толстяка провожает дама. — «Кланяйтесь нашим чаньчюньцам, прощается толстяк; — привет мукденцам», — говорит дама. Эмиграция осела, частично вымирает, частично приспосабливается. Иностранные туристы специально ездят смотреть эту вымирающую человеческую разновидность.
Китаец обиделся, вернулся. Началась ругань. Я понял, что китаец говорит об аресте и полиции, но русский, развалясь на диванчике (территория, ведь, японская уже), бесцеремоннейшим тоном парировал его нажим: «Наша ваша не боится. Ваша дверь не закрывает. Чего ваша кричи!» Получилось нечто в роде отыгрыша за харбинские демонстрации против Остроумова. Снова японский полицейский в сопровождении субъекта просматривает паспорта и делает отметки в книжке. Выходят. В дверях субъект оборачивается: «Которого числа вы выехали из Москвы»? Отвечаю — «Четырнадцатого». Мистер Блинч меня упрекает — «Охота отвечать. — Вы этого не обязаны делать. Это он перед японским полицейским фасон гнет». Охотно соглашаюсь — в следующий раз оставлю субъекта без ответа. Субъект, что ругался у двери с китайцем, уступает свое место русскому толстяку (толщиною с доброго полковника). Толстяка провожает дама. — «Кланяйтесь нашим чаньчюньцам, прощается толстяк; — привет мукденцам», — говорит дама. Эмиграция осела, частично вымирает, частично приспосабливается. Иностранные туристы специально ездят смотреть эту вымирающую человеческую разновидность.
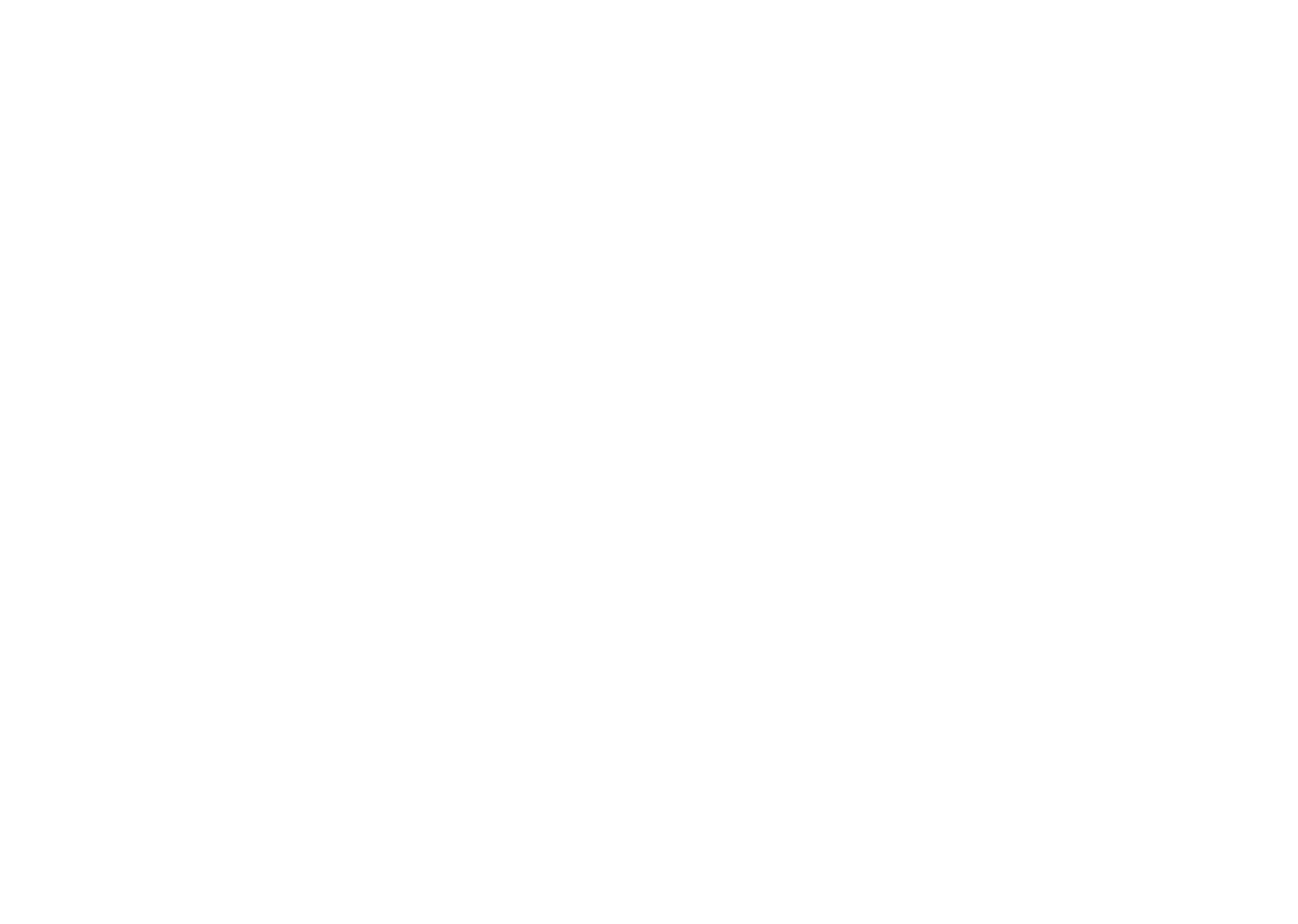
Ночь
Храпит вагон. Осматриваю его устройство. Умывалка вся никкелированная. Бак с водой; но чтоб эту воду получить, надо лезть пригоршнею куда-то под закраину таза, а большим пальцем нажимать какой-то курок сверху.
Таким способом, перепачкав руки о закраины, извлекаешь горсточку воды. С полотенцами устроено ловко: — на изогнутом металлическом пруте надета стопка полотенец с вклепанным в каждое металлическим пистоном — вытерся и сбросил по пруту вниз. На заграничных дорогах задался вопросом, почему у нас нет в умывалках полотенец и мыла? Это вовсе не комфорт, а самая первоначальная гигиена. Неужели же и это сопрут — только положи?
Встречаю рассвет: — солнце мигает, выскакивая в прорезь горного хребта. Японец-проводник подходит со щеткой и берет пиджак Мистера Блинча, куда-то его уносит и возвращает чистым. У спутника он пиджак буквально стаскивает с плеч и делает то же самое со мной. Потом начинает выволакивать наш багаж к выходу. Я изумлен: — а вдруг пропадет? Но нет — на японских дорогах пропаж не бывает. Честность тут финляндская. Поля до горизонта аккуратно распаханы, — рубчатая земля точно сукно-диагональ под микроскопом. Деревенек желтых аккуратных, мазанных, стенами наружу, окнами и дверьми домов во внутрь во дворы — становится все больше. Куда ни глянь, около деревень в чистом поле или под деревьями — семейство земляных муравейников. Это — могилы. С приближением к Мукдену их все больше. Мукден ими обложен, — земля ими взволновалась, как море в зыбь. Сифилитическою сыпью могил испрыщен Китай, — эта страна, в которой мертвые держат живых за горло, как нигде.
Таким способом, перепачкав руки о закраины, извлекаешь горсточку воды. С полотенцами устроено ловко: — на изогнутом металлическом пруте надета стопка полотенец с вклепанным в каждое металлическим пистоном — вытерся и сбросил по пруту вниз. На заграничных дорогах задался вопросом, почему у нас нет в умывалках полотенец и мыла? Это вовсе не комфорт, а самая первоначальная гигиена. Неужели же и это сопрут — только положи?
Встречаю рассвет: — солнце мигает, выскакивая в прорезь горного хребта. Японец-проводник подходит со щеткой и берет пиджак Мистера Блинча, куда-то его уносит и возвращает чистым. У спутника он пиджак буквально стаскивает с плеч и делает то же самое со мной. Потом начинает выволакивать наш багаж к выходу. Я изумлен: — а вдруг пропадет? Но нет — на японских дорогах пропаж не бывает. Честность тут финляндская. Поля до горизонта аккуратно распаханы, — рубчатая земля точно сукно-диагональ под микроскопом. Деревенек желтых аккуратных, мазанных, стенами наружу, окнами и дверьми домов во внутрь во дворы — становится все больше. Куда ни глянь, около деревень в чистом поле или под деревьями — семейство земляных муравейников. Это — могилы. С приближением к Мукдену их все больше. Мукден ими обложен, — земля ими взволновалась, как море в зыбь. Сифилитическою сыпью могил испрыщен Китай, — эта страна, в которой мертвые держат живых за горло, как нигде.
Если ехать от Тяньцзиня к морю, то от этих могил буквально некуда деться — и без того деревня на деревню налезает, поля крохотные, иногда чуть не саженями их мерить — а могилы горбятся везде и их приходится обходить сохой и мотыгой. Что мертвый в Китае хватает живого в самом буквальном смысле, доказательство этому хотя бы в том, что похоронная церемония зачастую не только съедает все наследство, но и вообще банкротит то семейство, в котором случилась смерть главы. К смерти здесь отношение почти приветливое, живому живется много неуютнее мертвого — лучший подарок детей любимому отцу — это хороший нарядный дорогой, расписанный и позолоченный гроб, даримый при жизни и радующий старика, по-видимому, не меньше, чем елочная пушка какого-нибудь нашего огольца.
Поезд пересекает дорогу длинную по самый горизонт, раскатанную, широченную и колеистую. Эта дорога ведет к императорским могилам — если проехать дальше по ней — в поле будут стоять по краям ее громадные каменные чудища и статуи мудрецов. По колеям волы влекут китайские многопудовые арбы, с колесами, где одну главную спицу-балку пересекают две тяжких распорки. Где полуаршинной толщины обод кован в три ряда гвоздями с двухдюймовыми шляпками. Волы идут медлительно и медлительные же китайские хохлы в синих долгополках фальцетом орут им китайское «цоб-цобе». Там, где древние дороги проходят не почвой, а камнем, — колеи превратились в две равных канавки, а века назад был издан в Китае закон о едином для всей страны расстоянии между колесами повозок.
Так создавались своеобразные древние рельсовые пути.
Поезд врывается в копченые корпуса, минует заводские трубы и чумазое депо и останавливается.
Поезд пересекает дорогу длинную по самый горизонт, раскатанную, широченную и колеистую. Эта дорога ведет к императорским могилам — если проехать дальше по ней — в поле будут стоять по краям ее громадные каменные чудища и статуи мудрецов. По колеям волы влекут китайские многопудовые арбы, с колесами, где одну главную спицу-балку пересекают две тяжких распорки. Где полуаршинной толщины обод кован в три ряда гвоздями с двухдюймовыми шляпками. Волы идут медлительно и медлительные же китайские хохлы в синих долгополках фальцетом орут им китайское «цоб-цобе». Там, где древние дороги проходят не почвой, а камнем, — колеи превратились в две равных канавки, а века назад был издан в Китае закон о едином для всей страны расстоянии между колесами повозок.
Так создавались своеобразные древние рельсовые пути.
Поезд врывается в копченые корпуса, минует заводские трубы и чумазое депо и останавливается.
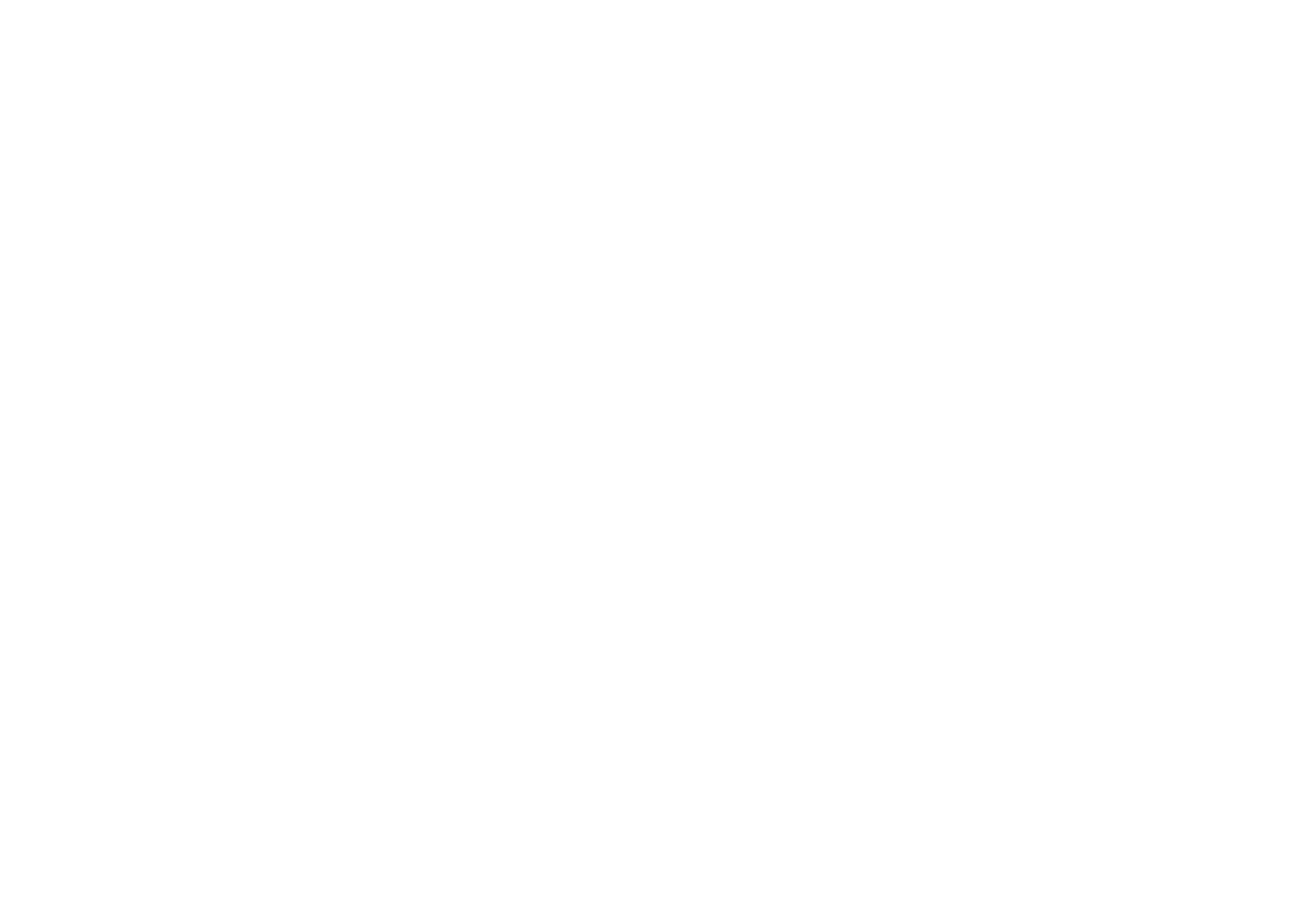
Мукден
Опять вокзал, сросшийся с «Ямато-Отель». Опять унылый субъект, следующий за нами неотступно на пятисаженной дистанции. Проходим платформы.
Грохот и звон колокола — так ночью по булыжнику грохочут пожарные. Оказывается, здесь у маневренных паровозов перед машинистовой будкой приделан колокол, в роде нашего часовенного, и бешено раскачивается паровым рычагом взад-вперед на громыхающей по рельсам махине. Стоят цепями на путях железные корыта огромных угольных полувагонов. Тупиковые пути — грязь, осколки, мусор. Меня поражает видеть такую грязь на японской железной дороге. На фоне мусорного ящика Мистер Блинч расстреливает нас из кодака. Субъект отодвигается в сторону, по-видимому, попадать на карточку в круг его обязанностей не входит.
Ресторан. Брэкфест. Лакей подает карточку, где изображено блюд восемь, внизу надпись — полторы иены. Спутник мой осторожно берет какое-то особо невинное блюдо. Беру и я с тяжелым сердцем, не зная, какая финансовая кара ждет меня за это. Вошедший Мистер Блинч изумлен нашей скромностью: — полторы иены за все, сколько бы в вас не влезло. Весело и дружно с большим энтузиазмом отъели мы свои полторы иены, запили съеденное кофеем и заели фруктой. Не ели только одного — перридж, поганая овсяная размазня, без которой ни один англичанин не в состоянии начать своего дня.
Японцы очень вежливы.
В парикмахерской побритый американец, держа в руках иену, требует у японца-парикмахера сдачу китайскими деньгами. Японец отвечает: йес (по английски — да) и с места не двигается, явно не понимая американца, но охотно угощая его, единственным ему знакомым английским словом — йес.
Грохот и звон колокола — так ночью по булыжнику грохочут пожарные. Оказывается, здесь у маневренных паровозов перед машинистовой будкой приделан колокол, в роде нашего часовенного, и бешено раскачивается паровым рычагом взад-вперед на громыхающей по рельсам махине. Стоят цепями на путях железные корыта огромных угольных полувагонов. Тупиковые пути — грязь, осколки, мусор. Меня поражает видеть такую грязь на японской железной дороге. На фоне мусорного ящика Мистер Блинч расстреливает нас из кодака. Субъект отодвигается в сторону, по-видимому, попадать на карточку в круг его обязанностей не входит.
Ресторан. Брэкфест. Лакей подает карточку, где изображено блюд восемь, внизу надпись — полторы иены. Спутник мой осторожно берет какое-то особо невинное блюдо. Беру и я с тяжелым сердцем, не зная, какая финансовая кара ждет меня за это. Вошедший Мистер Блинч изумлен нашей скромностью: — полторы иены за все, сколько бы в вас не влезло. Весело и дружно с большим энтузиазмом отъели мы свои полторы иены, запили съеденное кофеем и заели фруктой. Не ели только одного — перридж, поганая овсяная размазня, без которой ни один англичанин не в состоянии начать своего дня.
Японцы очень вежливы.
В парикмахерской побритый американец, держа в руках иену, требует у японца-парикмахера сдачу китайскими деньгами. Японец отвечает: йес (по английски — да) и с места не двигается, явно не понимая американца, но охотно угощая его, единственным ему знакомым английским словом — йес.
Американец объясняет:
— Я еду в Пекин, мне там нужны китайские деньги.
— Йес — отвечает, улыбаясь японец.
— Мне нечего делать с иенами.
— Йес.
— Так дайте же сдачи?
— Йес.
— Что же, вы не будете мне давать сдачи?
— Йес.
— Вы просто осел!
— Йес.
С помощью подошедших японцев, кое-как растолковав и расплатившись, американец бросает напоследки:
— Что же я такой дурак, чтобы вести в Пекин японские иены.
— Йес, — отвечает японец, уже бреющий другого.
Оба довольны.
Нечто в роде этого постигло меня: — я попросил показать мне кассу спальных плацкарт, мне сказали «йес» и повели; долго водили, привели в багажный пакгауз. Выбрался с трудом. Кассы не нашел — оказалось, что этого и не нужно: все билетные операции проделываются в вагоне, надо только сделать заявку на место, а затем искать по карточке на двери купэ. Вот тут-то и случилось второе крещение дипкурьера (октябрины), который волею японца стал Блинчем и долго упорствовал, не желая войти в купэ, занимаемое человеком, со столь подозрительной и мало обещающей фамилией.
Что касается меня, то моей фамилии им даже исковеркать не удалось, так как она для них оказалась невероятна — мне просто ткнули пальцем в дверь и я очутился с Мистером Кентом.
— Я еду в Пекин, мне там нужны китайские деньги.
— Йес — отвечает, улыбаясь японец.
— Мне нечего делать с иенами.
— Йес.
— Так дайте же сдачи?
— Йес.
— Что же, вы не будете мне давать сдачи?
— Йес.
— Вы просто осел!
— Йес.
С помощью подошедших японцев, кое-как растолковав и расплатившись, американец бросает напоследки:
— Что же я такой дурак, чтобы вести в Пекин японские иены.
— Йес, — отвечает японец, уже бреющий другого.
Оба довольны.
Нечто в роде этого постигло меня: — я попросил показать мне кассу спальных плацкарт, мне сказали «йес» и повели; долго водили, привели в багажный пакгауз. Выбрался с трудом. Кассы не нашел — оказалось, что этого и не нужно: все билетные операции проделываются в вагоне, надо только сделать заявку на место, а затем искать по карточке на двери купэ. Вот тут-то и случилось второе крещение дипкурьера (октябрины), который волею японца стал Блинчем и долго упорствовал, не желая войти в купэ, занимаемое человеком, со столь подозрительной и мало обещающей фамилией.
Что касается меня, то моей фамилии им даже исковеркать не удалось, так как она для них оказалась невероятна — мне просто ткнули пальцем в дверь и я очутился с Мистером Кентом.
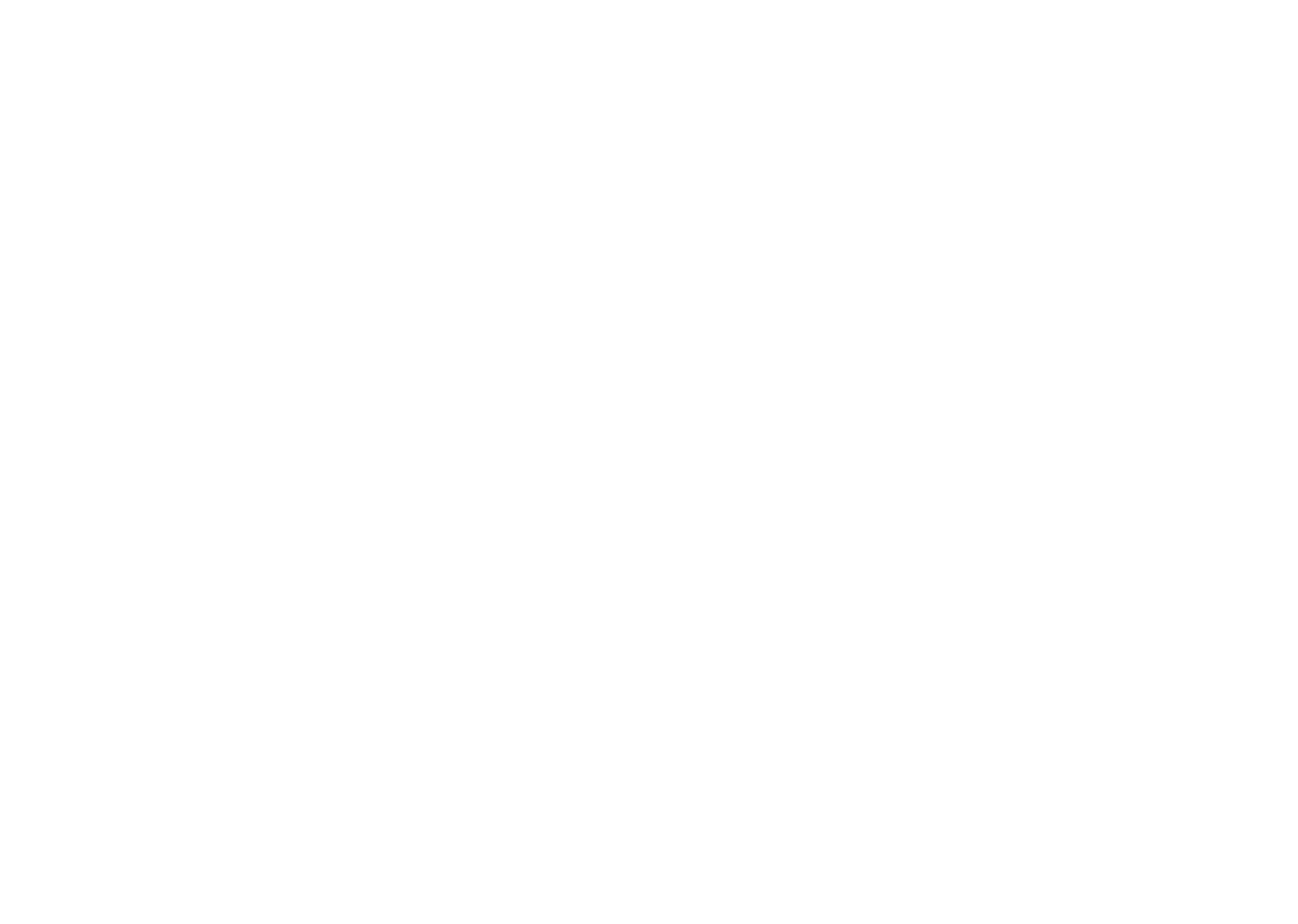
Крути китайская Гаврила!
Желающие ночью спать на перегоне Мукден — Пекин, должны брать место в 1-м классе, ибо 2-й класс имеет скамеечки двухместные, как в московских трамваях. Купэ очень неказистое — клеенчатый диван, кресло над которым ночью повисает вторая лежанка по международному образцу; отсутствие пепельниц — обязанность их исполняет плевательница. Есть умывалка при купэ, но в ней кипяток. Я ошпарил руки и больше в нее не ходил. Кипяток оказался прочный и не остыл до самого Пекина.
Гуськом через наш вагон в вагон-ресторан проследовала процессия, имевшая во главе сухопутного американца, за которым следовало десять штук сухих и жирных, но одинаково на вид неприемлемых, американок с очковыми обручами над нежно малиновыми носами и скулами. Они каркали хором, а по их тазобедерным суставам щелкались с одной стороны кодаки, а с другой — бинокли. В руках были бедеккеры, на головах рыжие корзины. Туристки. Одна такая поймала меня через несколько шагов в коридоре и обкаркала всего. Я сказал, что я немец и попробовал протискаться. Она загородила дорогу и продолжала каркать.
Гуськом через наш вагон в вагон-ресторан проследовала процессия, имевшая во главе сухопутного американца, за которым следовало десять штук сухих и жирных, но одинаково на вид неприемлемых, американок с очковыми обручами над нежно малиновыми носами и скулами. Они каркали хором, а по их тазобедерным суставам щелкались с одной стороны кодаки, а с другой — бинокли. В руках были бедеккеры, на головах рыжие корзины. Туристки. Одна такая поймала меня через несколько шагов в коридоре и обкаркала всего. Я сказал, что я немец и попробовал протискаться. Она загородила дорогу и продолжала каркать.
Кое-как я понял, что ей нужна Великая Китайская Стена (мы только что проехали несколько известко- и кирпичеобжигательных печей, похожих на недостроенные вавилонские башни — по-видимому, туристка забеспокоилась, не тут ли стена — вдруг же да такую достопримечательность проедешь, не заметив). Я решительно ответил: «в шесть часов», а потом прятался от этой американки, прильнувшей к стеклу с пяти часов, ибо узнал, что стену мы проедем в 4 часа утра.
Мистер Кент увидав, что я русский — заблаговолил ко мне. Он англичанин, а поэтому я у него признан де-юре. Он шанхайский коммерсант и, видимо, находится в предвкушении кое-каких торговых сделок с Россией. Завязывается политический разговор. Макдональда он хвалит — о, это очень крепкое и постепенное правительство. Рабочих ругает — они только хотят получать деньги, но вовсе не желают работать. Он заводит опасливый разговор о СССРской экономике. Я рассказываю ему про «ножницы»: не зная слова ножницы, представляю маленькую пантомиму — в парикмахерской, действую двумя пальцами на своей безволосой голове. Кажется он понял — боюсь только не перевел ли моего пояснения словом — «бритва» или «бритье» — это было бы крайне огорчительно и, главное, по существу неверно. Затем он твердо произносит: — Ваш хлеб — наши машины, и отправляется на Тихвин.
Мистер Кент увидав, что я русский — заблаговолил ко мне. Он англичанин, а поэтому я у него признан де-юре. Он шанхайский коммерсант и, видимо, находится в предвкушении кое-каких торговых сделок с Россией. Завязывается политический разговор. Макдональда он хвалит — о, это очень крепкое и постепенное правительство. Рабочих ругает — они только хотят получать деньги, но вовсе не желают работать. Он заводит опасливый разговор о СССРской экономике. Я рассказываю ему про «ножницы»: не зная слова ножницы, представляю маленькую пантомиму — в парикмахерской, действую двумя пальцами на своей безволосой голове. Кажется он понял — боюсь только не перевел ли моего пояснения словом — «бритва» или «бритье» — это было бы крайне огорчительно и, главное, по существу неверно. Затем он твердо произносит: — Ваш хлеб — наши машины, и отправляется на Тихвин.
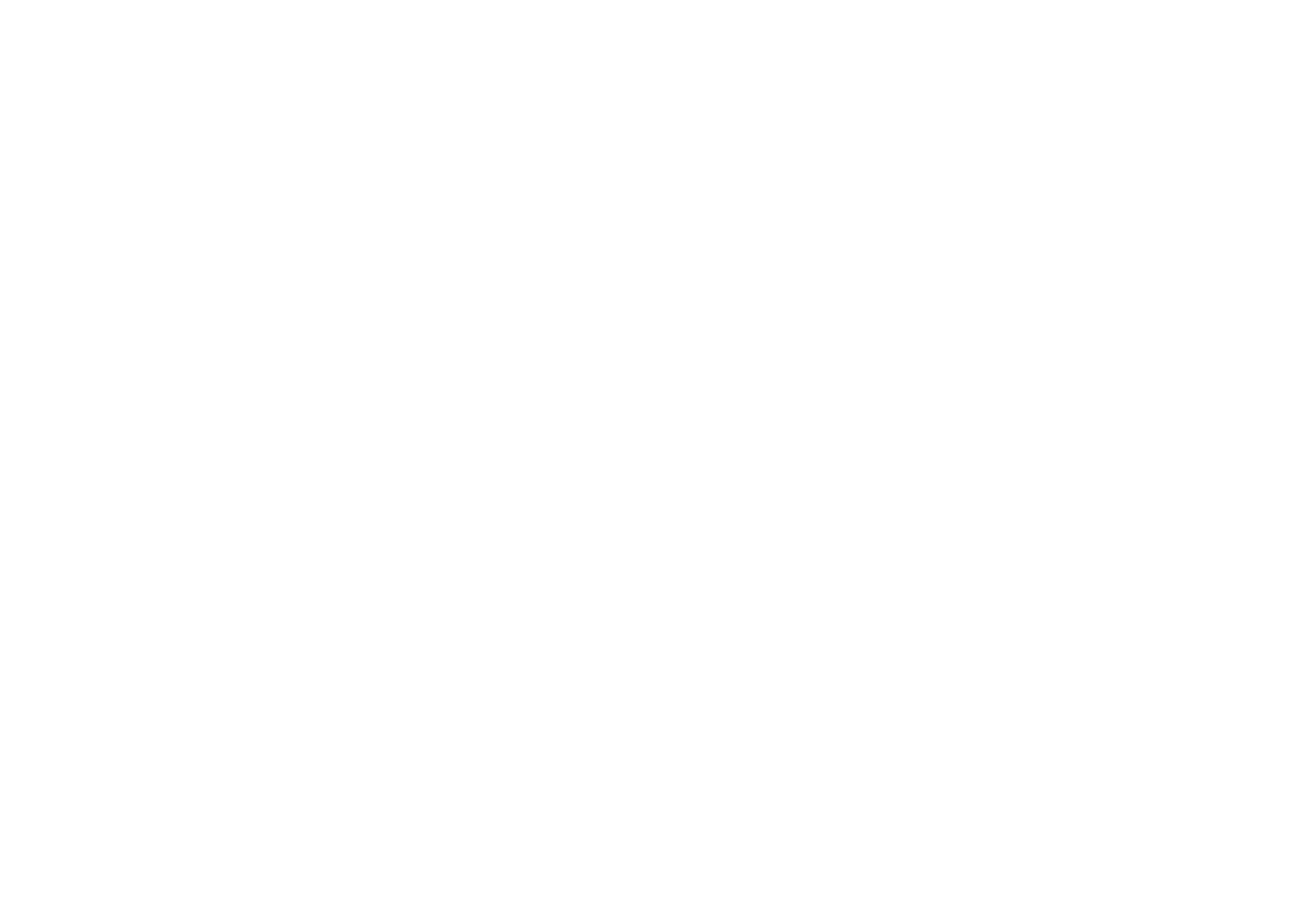
Тихвин
По-английски тиффим — завтрак за полтора доллара из десяти блюд со включением терпчайшего риса под зеленым явно экзотическим соусом, мясо, мясо и мясо, поливаемое из бутыли соей цвета танго под названием «Katsup» (я это перевел — кошачьи щи). Я тихвинничаю без спутников — против меня пара: он — американский методистский пастор с лицом цвета хаки и носом, под которым нависли, как две перевернутые лодки, необыкновенно просторные ноздри. Она — в мехах и вуали, дебелая русская из Тяньцзина. Говорят по-французски. Разговор идет о бедных русских, живущих в Чань-чуне, офицерах меркуловцах. Оба вздыхают, оба жалеют. Потом он начинает ей показывать визы своего паспорта: все страны от Боливии до Сибири. Она заинтересовалась гербовой маркой английской визы.
Он поясняет:
— Это — Жорж Пятый.
— Ах, как похож на царя Николая!
— Ну да, они же двоюродные.
— Ах, бедный, бедный, царь Николай! (оба вздыхают)
— Мне пришлось по просьбе русских графинь и княгинь отслужить очень много месс по царю Николаю в Америке.
«Этот заработал на русской революции», — подумалось мне.
Он поясняет:
— Это — Жорж Пятый.
— Ах, как похож на царя Николая!
— Ну да, они же двоюродные.
— Ах, бедный, бедный, царь Николай! (оба вздыхают)
— Мне пришлось по просьбе русских графинь и княгинь отслужить очень много месс по царю Николаю в Америке.
«Этот заработал на русской революции», — подумалось мне.
Дальше упомянулся сочувственно (дамой) Распутин, а потом перешли к перечислению графинь, живущих в Америке.
Пастор оживленно: — князь такой-то спасся из России, а деньги были при нем в поясе — он смог потом бросать на чай лакеям, чуть не по сто рублей. А вы как выбрались?
— Ах, я только немного своих бижу (драгоценностей) сумела провезти.
— Как провезти?
— В кармане.
Оба опять вздыхают.
— А у меня частушки вертятся:
«Из России я бежу
Волоку свои бижу».
Неподалеку за столом еще одна дама, по отзывам Мистера Блинча, белогвардейка и чуть ли не шпичка. Туго приходится теперь здесь этой породе — где былое уважение? Она зачиталась книгой, лакей-китаец унес у нее полудопитую чашку кофе. Она в крик: где кофе? Лакеи обступили, и послушали, а потом, один из них высунул язык и стал дразнить, коверкаясь — кофэ; кофэ. Потом лакеи заржали, а оскорбленная дама, заскрипев корсетом и зубами вышелестела из вагона.
Пастор оживленно: — князь такой-то спасся из России, а деньги были при нем в поясе — он смог потом бросать на чай лакеям, чуть не по сто рублей. А вы как выбрались?
— Ах, я только немного своих бижу (драгоценностей) сумела провезти.
— Как провезти?
— В кармане.
Оба опять вздыхают.
— А у меня частушки вертятся:
«Из России я бежу
Волоку свои бижу».
Неподалеку за столом еще одна дама, по отзывам Мистера Блинча, белогвардейка и чуть ли не шпичка. Туго приходится теперь здесь этой породе — где былое уважение? Она зачиталась книгой, лакей-китаец унес у нее полудопитую чашку кофе. Она в крик: где кофе? Лакеи обступили, и послушали, а потом, один из них высунул язык и стал дразнить, коверкаясь — кофэ; кофэ. Потом лакеи заржали, а оскорбленная дама, заскрипев корсетом и зубами вышелестела из вагона.
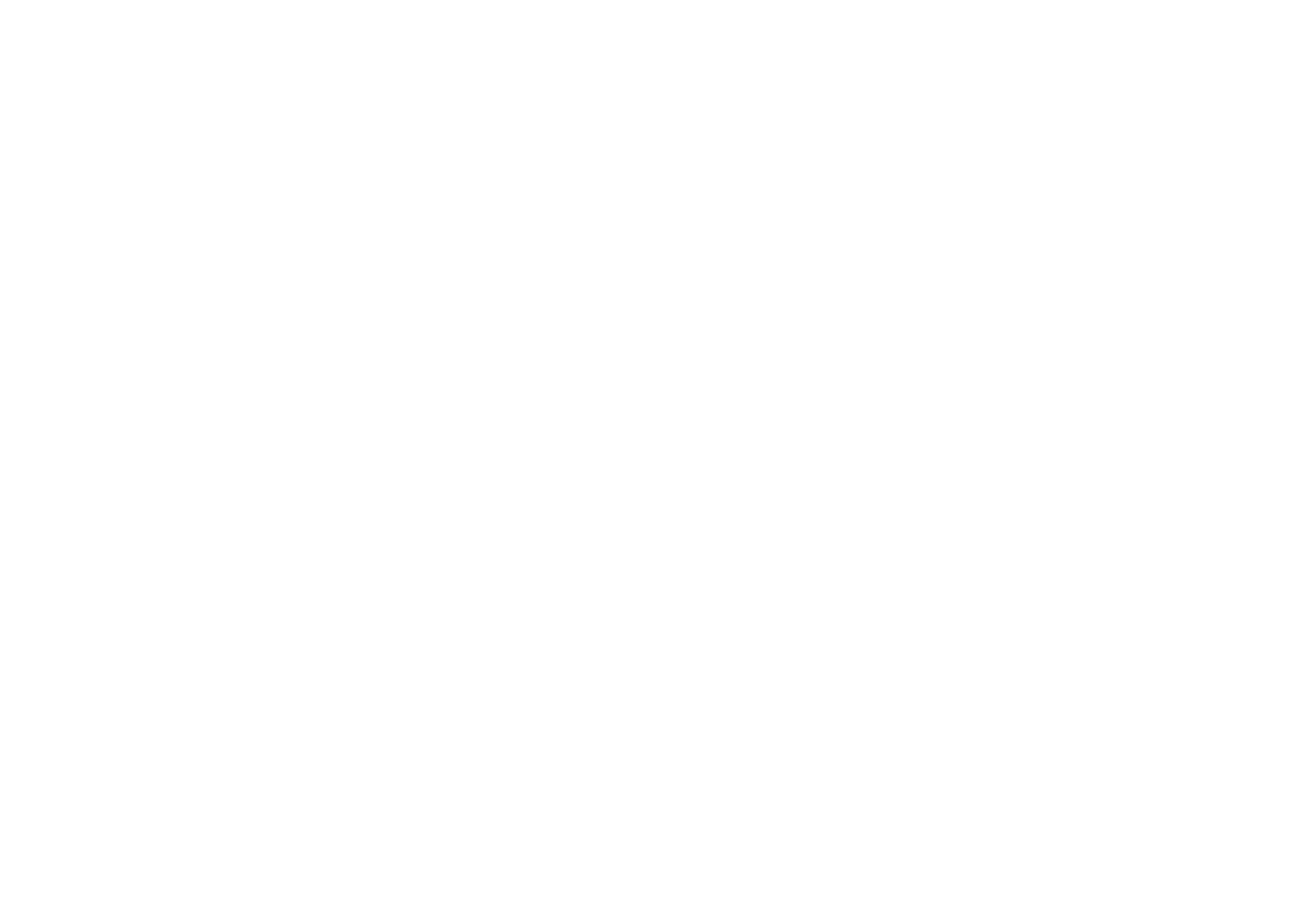
Станции
В деревнях вдоль железной дороги плетут желтые многосаженные циновки. Стоят скирды гаоляновой и пшеничной соломы. У станций стопками аршинных желтых пятаков высятся колонны спрессованных бобовых жмыхов (здешние бобы — это то, что у нас называется китайскими орехами). На маленьких станциях — безлюдие. Унылая пара солдат маячит. На станциях побольше — гвалт, крик, певучий, разносчичий. К окнам вагонов давятся фруктовщики, на коромысле несущие целых два стола, установленные побуревшими мандаринами, черными банановыми загогулинами, пресными грушами, орехами. Снуют продавцы засахаренных китайских яблок. В руке у них в роде метлы; на каждый прутик костяшками конторских счет насажены красные и желтые, а то и белые, как в известке, яблочки, со сливу величиной.
Покупатель получает прутик и спихивает с него яблочки по одному в рот. На поставленных на головы лотках груды уток ярко красного кумачевого цвета — их особенно готовят в перце, что дает утиной коже этот пунцовый цвет. Утки с лотков берутся в окне, осматриваются, возвращаются обратно на лоток, или же высылают вместо себя эквивалент в виде четвертака.
С деньгами здесь совсем беда. Бумажные китайские доллары ходят только в той провинции, в которой они выпущены. Серебряный даян, с портретом жирного Юаншикая, ходит везде. Вы покупаете коробок спичек и вам дают сдачи пять двугривенных, да еще меди. Не думайте, что это от щедрости.
Мелкая монета здесь ходит дешевле, чем крупная: за даян дают 11 гривенников мелким серебром, а медных копеек (по здешнему копперы или тунзуры) на даян приходится 210.
Покупатель получает прутик и спихивает с него яблочки по одному в рот. На поставленных на головы лотках груды уток ярко красного кумачевого цвета — их особенно готовят в перце, что дает утиной коже этот пунцовый цвет. Утки с лотков берутся в окне, осматриваются, возвращаются обратно на лоток, или же высылают вместо себя эквивалент в виде четвертака.
С деньгами здесь совсем беда. Бумажные китайские доллары ходят только в той провинции, в которой они выпущены. Серебряный даян, с портретом жирного Юаншикая, ходит везде. Вы покупаете коробок спичек и вам дают сдачи пять двугривенных, да еще меди. Не думайте, что это от щедрости.
Мелкая монета здесь ходит дешевле, чем крупная: за даян дают 11 гривенников мелким серебром, а медных копеек (по здешнему копперы или тунзуры) на даян приходится 210.
Три года назад курс тунзуров был 140, и происшедшее за последнее время резкое падение этой по существу основной валюты, на которую живет вся китайская масса, отразилось на повышении цен, которые скакнули, как водится, несоизмеримо сильнее — не в 1 1/2 раза, а в два и три.
Утро. Мистер Кент выходит в Тяньцзине — этом городе чопорных и чванных европейских сеттльментов (колоний), нанизанных на одну длинную улицу, как китайские яблочки на лучинку, городе — тихих асфальтов, домов, похожих на дачные, и методического уклада жизни колониальных европейцев — этих отвратительнейших из европейцев — ханж самоуверенных, жадных, спесивых и жестоких. Еще проходит три часа и уже пошли по краям полотна кумирни с красными стенами, над которыми черная зелень, никакой расческе неподдающихся, сосен. Опять могилы — но уже важные, обнесенные оградами, частью разломанными. Огороды (китайцы великолепные огородники), где каждая гряда защищена с северо-запада камышевой ширмой.
Пагода, как каменная серая елка; по концам увешанная остролепестными колокольцами. Первая пекинская стена, в квадрат охватившая город, толстая такая, что на ней разбиты сады, и шесть повозок в ряд свободно едут по ней, вся в квадратных зубцах. За нею — синяя воронка Храма Неба ткнулась своим острием в пекинское небо, синее, как одежда китайцев. За храмом — стальной переплет радио-башен. Над городом видна труба, верхние этажи громадины дома Отель де Пекин. Вторая стена с гигантскими шестиэтажными угловыми казармами и сине-золотыми многоярусными сложно-строительными надворотными башнями.
Вокзал. Пекин.
Утро. Мистер Кент выходит в Тяньцзине — этом городе чопорных и чванных европейских сеттльментов (колоний), нанизанных на одну длинную улицу, как китайские яблочки на лучинку, городе — тихих асфальтов, домов, похожих на дачные, и методического уклада жизни колониальных европейцев — этих отвратительнейших из европейцев — ханж самоуверенных, жадных, спесивых и жестоких. Еще проходит три часа и уже пошли по краям полотна кумирни с красными стенами, над которыми черная зелень, никакой расческе неподдающихся, сосен. Опять могилы — но уже важные, обнесенные оградами, частью разломанными. Огороды (китайцы великолепные огородники), где каждая гряда защищена с северо-запада камышевой ширмой.
Пагода, как каменная серая елка; по концам увешанная остролепестными колокольцами. Первая пекинская стена, в квадрат охватившая город, толстая такая, что на ней разбиты сады, и шесть повозок в ряд свободно едут по ней, вся в квадратных зубцах. За нею — синяя воронка Храма Неба ткнулась своим острием в пекинское небо, синее, как одежда китайцев. За храмом — стальной переплет радио-башен. Над городом видна труба, верхние этажи громадины дома Отель де Пекин. Вторая стена с гигантскими шестиэтажными угловыми казармами и сине-золотыми многоярусными сложно-строительными надворотными башнями.
Вокзал. Пекин.
Выставка «ЛЕФ. Опыт создания искусства дня» проходит в Библиотеке им. Н.А. Некрасова
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 (м. «Бауманская»)
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 (м. «Бауманская»)