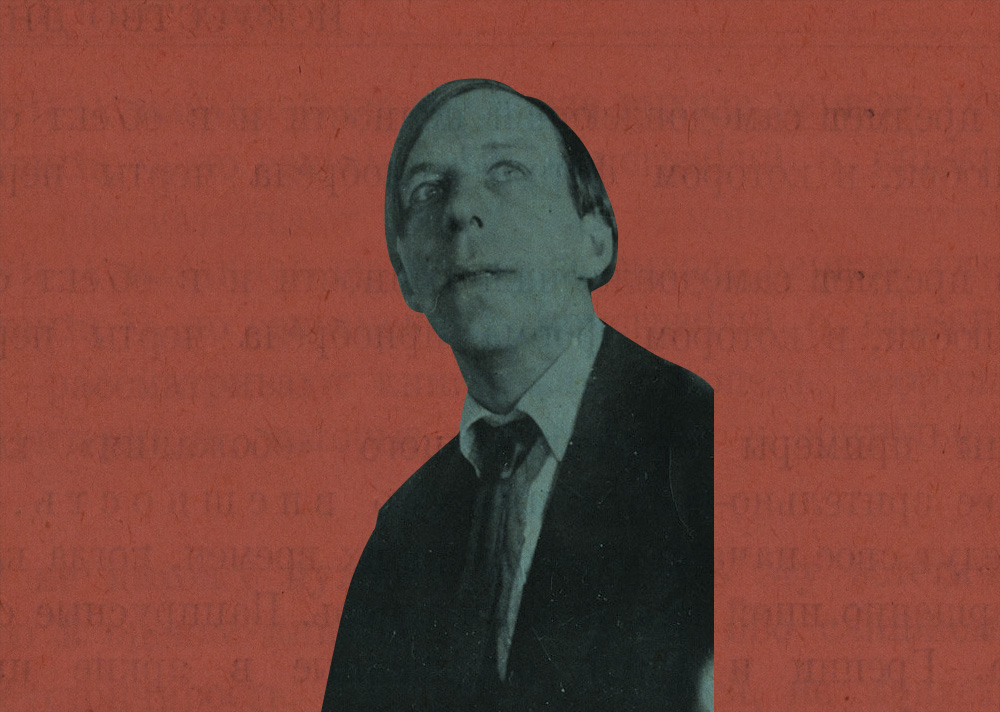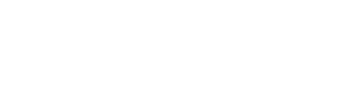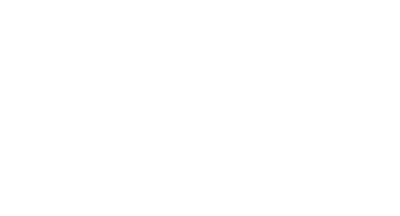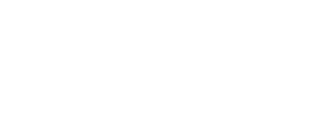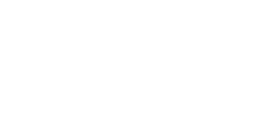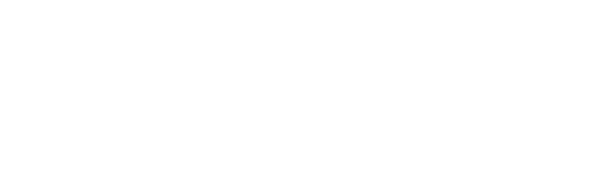Записная книжка
Журнал «Новый Леф» сохраняет и расширяет лефовскую традицию полемики на страницах издания, в 1927 году создается постоянная рубрика «Записная книжка», где участники арт-группы в дневниковом формате описывают абсолютно все перипетии своей жизни, от бытовых неурядиц и личных обид до эссеистики.

Асеев
Как я себя чувствую в литературе? Как морская рыбешка в пресной воде. Если зачеркнуть эпитеты, которые всегда почти играют украшательскую роль, то получится очень хорошо: просто как рыба в воде.
Кроме ближайших друзей, с которыми ничто уже не сможет изменить отношений, — Маяковского, Брика, Пастернака, Шкловского и всех лефов, — ко мне хорошо относятся М. Голодный, Светлов, Бабель, О. Форш, Н. Тихонов, А. Веселый. С ними — хоть и видишься редко — чувствуешь непрерывную связь доверия и симпатии, неослабевающих от времени.
Не любят меня славянофилы: П. Орешин, С. Клычков, А. Толстой. Этот при последней встрече смотрел на меня округлившимися по-совиному глазами и, качая головой, все повторял: «Ах, Асеев, какой же вы ожесточенный человек!» Это на то, как я говорил, что пишет он теперь, очертя голову, на рынок, презирая и рынок и самого себя.
Щеголев сидел, как честертоновское Воскресение, и давил меня холодом молчаливого недоброжелательства. А в общем — им здорово хотелось меня побить, но не было повода и уверенности в своей правоте.
Раскормленные литературные битюги, стареющие протодьяконы от искусства.
Кроме ближайших друзей, с которыми ничто уже не сможет изменить отношений, — Маяковского, Брика, Пастернака, Шкловского и всех лефов, — ко мне хорошо относятся М. Голодный, Светлов, Бабель, О. Форш, Н. Тихонов, А. Веселый. С ними — хоть и видишься редко — чувствуешь непрерывную связь доверия и симпатии, неослабевающих от времени.
Не любят меня славянофилы: П. Орешин, С. Клычков, А. Толстой. Этот при последней встрече смотрел на меня округлившимися по-совиному глазами и, качая головой, все повторял: «Ах, Асеев, какой же вы ожесточенный человек!» Это на то, как я говорил, что пишет он теперь, очертя голову, на рынок, презирая и рынок и самого себя.
Щеголев сидел, как честертоновское Воскресение, и давил меня холодом молчаливого недоброжелательства. А в общем — им здорово хотелось меня побить, но не было повода и уверенности в своей правоте.
Раскормленные литературные битюги, стареющие протодьяконы от искусства.
«Новый Леф», 1927, № 4
Асеев
Николай Тихонов кавалерист и по виду. Он сух, поджар, постен, и, кажется, лицо его должны пересекать шрамы многочисленных молчаливых схваток. В семье, несмотря на большую нежность к ней, он остается поставленным на постой солдатом. У него целый сундук с неопубликованными балладами типа «Синего пакета». Он их не пустил в печать, перейдя на более сложные формы стиха.
«Новый Леф», 1927, № 4
Асеев
Про Николая Никитина, вошедшего в комнату в кепке, чулках и круглых очках, кто-то — кажется, Чуковский — заметил: «Разве это писатель? Это велосипедист! Его очки к земле давят!»
«Новый Леф», 1927, № 4
Асеев
Кто ненавидит меня, так это Воронский. Сердит он на меня за то что я написал когда-то в «Молодой Гвардии», что поэтическая молодежь нищенствует, а людьми, подобными ему, в это же время устраиваются заграничные командировки Пильняку. Он этого никогда не простит мне. Он даже из своей книги вычеркнул мою фамилию, упоминавшуюся в статьях, вошедших в книгу. Очень злопамятный и самолюбивый человек.
«Новый Леф», 1927, № 4
Асеев
Красные ворота прошлым летом реставрировали и красили, а теперь решено их снести, так как мешают движению. Отсюда ясна разница между движением зимним и летним.
Для редакции частная приписка: Ворота решено оставить, по Москве ходят «стихи»:
Была белая Москва
Были Красные ворота,
Стала красная Москва
Стали белыми ворота.
Для редакции частная приписка: Ворота решено оставить, по Москве ходят «стихи»:
Была белая Москва
Были Красные ворота,
Стала красная Москва
Стали белыми ворота.
«Новый Леф», 1927, № 4
Асеев
Из разговора с одним умным и культурным человеком.
«Ну, расскажите, что у вас там в союзе писателей?» — «Да я там не бываю». — «Ну, все-таки, ведь знаете же? Кто там председатель?»— «Сквирский Ал. Ив.!» — «Какой это Сквирский? Это что в Одессе босячил? Разве он не умер? А я думал, что он давно уже умер. Ну, очень рад, очень рад! А я думал, что умер! А вот вы читали альманах «Прибой»? Там Пантелеймон Романов. О любви. И Фатов. Кажется, так ведь — Фатов? Он пишет, что Романов классик? Вот, например, — «О любви». Но это же несколько страничек пошлости?! А! И вы за них? Это вас погубит!»
Умный человек не слушает возражений. Он валит в одну кучу все, что есть в литературе. По скуле его от виска до подбородка вибрируют мускулы. Он подхохатывает все время суховатым смешком своим словам. Его лоб велик, почти в остальную половину лица. Нос кривит несколько вправо; веки глаз припухлые; губы ярки, но расплывчаты; волосы цвета пепла все еще густы и живы. Костюм на нем из русского сукна сидит чуть-чуть мешковато. Подчеркнутая, пожалуй, пренебрежительность к покрою платья и литературе. Есть дела более важные. А литература — это вообще — Романов, Маяковский, Пастернак, Казин, Пильняк, Булгаков и еще там — как его? — Фатов? Кажется, ведь так, — Фатов? Ну, я очень рад, очень, что никто не умер!
На стене огромная, во всю высоту, карта Европы.
В узком, красной фанеры, ящике кабинета, засунут умный, большой, культурный человек.
И пресность воды, в которой живешь, тогда ощущается сильнее.
«Ну, расскажите, что у вас там в союзе писателей?» — «Да я там не бываю». — «Ну, все-таки, ведь знаете же? Кто там председатель?»— «Сквирский Ал. Ив.!» — «Какой это Сквирский? Это что в Одессе босячил? Разве он не умер? А я думал, что он давно уже умер. Ну, очень рад, очень рад! А я думал, что умер! А вот вы читали альманах «Прибой»? Там Пантелеймон Романов. О любви. И Фатов. Кажется, так ведь — Фатов? Он пишет, что Романов классик? Вот, например, — «О любви». Но это же несколько страничек пошлости?! А! И вы за них? Это вас погубит!»
Умный человек не слушает возражений. Он валит в одну кучу все, что есть в литературе. По скуле его от виска до подбородка вибрируют мускулы. Он подхохатывает все время суховатым смешком своим словам. Его лоб велик, почти в остальную половину лица. Нос кривит несколько вправо; веки глаз припухлые; губы ярки, но расплывчаты; волосы цвета пепла все еще густы и живы. Костюм на нем из русского сукна сидит чуть-чуть мешковато. Подчеркнутая, пожалуй, пренебрежительность к покрою платья и литературе. Есть дела более важные. А литература — это вообще — Романов, Маяковский, Пастернак, Казин, Пильняк, Булгаков и еще там — как его? — Фатов? Кажется, ведь так, — Фатов? Ну, я очень рад, очень, что никто не умер!
На стене огромная, во всю высоту, карта Европы.
В узком, красной фанеры, ящике кабинета, засунут умный, большой, культурный человек.
И пресность воды, в которой живешь, тогда ощущается сильнее.
«Новый Леф», 1927, № 4
Асеев
Орешин ненавидит меня черной волчьей ненавистью.
Ему кажется, что я ему в чем-то мешаю, что-то перебиваю, где-то перехожу дорогу. Впрочем вряд ли он долюбливает кого-нибудь даже из своих собутыльников. Он горячешный ненавистник всяких возможных даже в воображении убытков.
И существование других поэтов ему кажется личным, сплошным, непоправимым убытком.
Ему кажется, что я ему в чем-то мешаю, что-то перебиваю, где-то перехожу дорогу. Впрочем вряд ли он долюбливает кого-нибудь даже из своих собутыльников. Он горячешный ненавистник всяких возможных даже в воображении убытков.
И существование других поэтов ему кажется личным, сплошным, непоправимым убытком.
«Новый Леф», 1927, № 4
Асеев
Был в «Молодой Гвардии». Из кучи стихотворений, присланных в редакцию, попалось одно, подписанное фамилией Цвелев. Ручаюсь, что через год будет известен. Живет в Можайске. Не знаю его лица, происхождения, адреса. Но критикам советую запомнить фамилию и занести в записные книжки. Пригодится. Заработают.
А Цвелеву запомнить: впервые, как и многих других наиболее талантливых, его фамилия произносится в «Лефе».
А Цвелеву запомнить: впервые, как и многих других наиболее талантливых, его фамилия произносится в «Лефе».
«Новый Леф», 1927, № 4
Маяковский
Сейчас апрель. Февральскую революцию праздновали в марте, но и до декабря будет удивлять следующее:
12 марта в «Правде» появилась поэма Орешина «Распутин», в «Известиях» появилась она же, но в сокращенном виде.
В «Правде» кончалась словами:
«И царя со всею знатной дрянью
сшибли Октябрем».
В «Известиях»:
«И царя со всею знатной дрянью
сшибли Февралем».
Все удивительно в этой двухвостой поэме. Почему «октябрь» и «февраль» оказались одним и тем же, почему вместо двух разных революций какой-то один общий комбинированный «дуплет» получается, почему на одного поэта целые две революции и две газеты пришлись и почему этот один — Орешин.
12 марта в «Правде» появилась поэма Орешина «Распутин», в «Известиях» появилась она же, но в сокращенном виде.
В «Правде» кончалась словами:
«И царя со всею знатной дрянью
сшибли Октябрем».
В «Известиях»:
«И царя со всею знатной дрянью
сшибли Февралем».
Все удивительно в этой двухвостой поэме. Почему «октябрь» и «февраль» оказались одним и тем же, почему вместо двух разных революций какой-то один общий комбинированный «дуплет» получается, почему на одного поэта целые две революции и две газеты пришлись и почему этот один — Орешин.
«Новый Леф», 1927, № 4
Маяковский
Я собрал около 7000 записок, поданных мне на лекциях за последнее полугодие. Записки разбираем, систематизируем и выпустим книгу универсальных ответов. Пока общее правило:
Публика первых рядов платных выступлений больше всего жалуется, что «Леф не понятен рабочим и крестьянам».
С одним таким я вступил, смущаясь, в долгие объяснения. Меня одобрили с галерки: «Да что вы с ним болтаете, это крупье из местного казино!» Крупье имел бесплатное место в театре, так как эти два учреждения часто селятся рядом.
Зато в Ростове-на-Дону, выступая в ленинских мастерских перед 800 рабочими, я не получил ни одной не понимающей записки.
Проголосовали:
— Все ли понимают?
— Кто нет? Одиннадцать.
— Всем ли нравится?
— Кому нет? Одному.
— Остальным, которые и не понимают, и тем нравится?
— И тем.
— А кто этот стихоустойчивый один?
— Наш библиотекарь.
В поездках по провинции видишь и читаешь многое, обычно не попадающееся.
Например, крестьянский литературно-общественный журнал «Жернов» № 8. А в нем статья тов. Деева-Хомяковского «Против упадочничества».
В ней есть такое:
— Характерно письмо одного и не плохо пишущего товарища из крестьян Гомельской губернии:
Я усиленно работаю над собой, но мне никак не удается хотя краем уха пролезть в такие журналы, как «Красная Нива», «Новый Мир», «Красная Новь». Послал «прохвостам» ряд своих лучших стихов, но, увы, даже ответа не получил. Писал запрос, просил слезно «отеческий» ответ, но ничего не слышно. Вот, товарищи, бывают минуты отчаяния, и тогда на все смотришь не глазами пролетариата, а глазами озорными и забиякой сорванцом. Везде в журналах печатаются только «свои», только тот, кто у «печки». Печатают всякий хлам и шлют его нам в деревню.
Леф, конечно, против грубого тона, но по существу это, конечно, правильно.
А еще редактор «Нового Мира» и «Красной Нивы» пишет, что Леф потерял связь с литературным молодняком.
Что вы!
В один голос разговариваем.
Публика первых рядов платных выступлений больше всего жалуется, что «Леф не понятен рабочим и крестьянам».
С одним таким я вступил, смущаясь, в долгие объяснения. Меня одобрили с галерки: «Да что вы с ним болтаете, это крупье из местного казино!» Крупье имел бесплатное место в театре, так как эти два учреждения часто селятся рядом.
Зато в Ростове-на-Дону, выступая в ленинских мастерских перед 800 рабочими, я не получил ни одной не понимающей записки.
Проголосовали:
— Все ли понимают?
— Кто нет? Одиннадцать.
— Всем ли нравится?
— Кому нет? Одному.
— Остальным, которые и не понимают, и тем нравится?
— И тем.
— А кто этот стихоустойчивый один?
— Наш библиотекарь.
В поездках по провинции видишь и читаешь многое, обычно не попадающееся.
Например, крестьянский литературно-общественный журнал «Жернов» № 8. А в нем статья тов. Деева-Хомяковского «Против упадочничества».
В ней есть такое:
— Характерно письмо одного и не плохо пишущего товарища из крестьян Гомельской губернии:
Я усиленно работаю над собой, но мне никак не удается хотя краем уха пролезть в такие журналы, как «Красная Нива», «Новый Мир», «Красная Новь». Послал «прохвостам» ряд своих лучших стихов, но, увы, даже ответа не получил. Писал запрос, просил слезно «отеческий» ответ, но ничего не слышно. Вот, товарищи, бывают минуты отчаяния, и тогда на все смотришь не глазами пролетариата, а глазами озорными и забиякой сорванцом. Везде в журналах печатаются только «свои», только тот, кто у «печки». Печатают всякий хлам и шлют его нам в деревню.
Леф, конечно, против грубого тона, но по существу это, конечно, правильно.
А еще редактор «Нового Мира» и «Красной Нивы» пишет, что Леф потерял связь с литературным молодняком.
Что вы!
В один голос разговариваем.
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Двухлетний ребенок говорит, неправильно употребляя словесные штампы: «Я с таким трудом потеряла карандаш».
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
К отцу Есенина — крестьянину — приехала делегация. Он принял их в избе.
— Расскажите нам о вашем сыне.
Старик прошелся в валенках по комнате. Сел и начал:
— Была темная ночь. Дождь лил, как из ведра...
— Расскажите нам о вашем сыне.
Старик прошелся в валенках по комнате. Сел и начал:
— Была темная ночь. Дождь лил, как из ведра...
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
В одной редакции редактор спрашивал, получив толстую рукопись:
— Роман? — Роман.
— Героиня Нина?
— Нина, — обрадовался подающий.
— Возьмите обратно, — мрачно отвечал редактор.
— Роман? — Роман.
— Героиня Нина?
— Нина, — обрадовался подающий.
— Возьмите обратно, — мрачно отвечал редактор.
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Крестьяне покупают на ярмарках фотографические карточки и вешают их на стенах изб как украшения.
Вероятно, не хватает генералов.
Вероятно, не хватает генералов.
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Во время войны многие наши пленные бродили по центральной Европе. Они попадали из Германии в Сербию, в Турцию. Потом они попали в революцию. Трудно даже представить, насколько изменился крестьянин.
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Сибирскому языку Всеволода Иванова обучал Горький. Для него Всеволод записал пять тысяч слов. Еще не все слова использованы. Если кому нужно, попросите. Может быть, подарит. Он писатель настоящий.
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Моему знакомому цензор сказал: «У вас стиль удобный для цензурных сокращений».
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Человек, назначенный заведующим одного кинопредприятия, на первом прочитанном сценарии (Левидова) написал следующую резолюцию: «Читал всю ночь. Ничего не понял. Все из кусочков. Отклонить».
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Редактор, прочитав стихи поэта, сказал ему: «Ваши стихи превосходны, но я их не напечатаю: они мне не нравятся»... Потом прибавил задумчиво: «А знаете, вы чем-то напоминаете мне моего Бакунина».
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Крупное издательство вывесило объявление: «Выдача гонорара прекращена впредь до особого распоряжения».
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Молодой поэт, только что выпустивший свою первую книжку, спросил: «Как вы думаете, я останусь в истории литературы?»
Вопрос этот напоминает вопрос не очень порядочной женщины: «Я тебе доставила удовольствие?»
Вопрос этот напоминает вопрос не очень порядочной женщины: «Я тебе доставила удовольствие?»
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Издатель (Успенский) прочел книгу, ему принесенную, и сказал: «Я не читаю уже пятнадцать лет. Вашу книгу я прочел, так как вас очень уважаю. Она не понятна. Вы ее не можете переделать?»
Писатель переделал.
Писатель переделал.
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
В.Л. Дуров рассказывал: «Я выписал из-за границы моржей, чтобы научить их резать минные заграждения.
— И режут?
— Нет, пока я их научил играть на гитаре».
— И режут?
— Нет, пока я их научил играть на гитаре».
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Петр Коган носил в Париже, приходя на выставку, цилиндр, как поставленный на голову, а не как надетый.
Так Сейфуллина сейчас носит свое литературное имя.
Так Сейфуллина сейчас носит свое литературное имя.
«Новый Леф», 1927, № 4
Шкловский
Видал карточку К. Федина.
Он сидит за столом между статуэтками Толстого и Гоголя.
Сидит — привыкает.
Он сидит за столом между статуэтками Толстого и Гоголя.
Сидит — привыкает.
«Новый Леф», 1927, № 4
Асеев
Когда мы ездили с Маяковским по провинции с лекциями и чтением стихов, меня поразило единообразие подаваемых слушателями записок. В Туле и в Курске, в Киеве и в Харькове записки были до того похожи, что будто бы они писались одними и теми же людьми, переезжавшими из города в город вместе с нами. Делились записки на сочувствующие, недоумевающие и враждебные. Но помимо отношения публики к нам, самый стиль записок был до того повторен в своем синтаксическом и смысловом трафарете, что, казалось, бежит за нами многократное эхо, или записки писаны в одном месте на гектографе. В них до того выпукло встала передо мной значимость социального факта, что как будто я начал видеть распространяемость мышлевых волн одинаковой длины, воспринимающих откуда-то извне одинаковой силы раздражение. Это замечательно по наглядности выявления общественного мышления, в котором явление распространяется, как волна плоской поверхности.
«Новый Леф», 1927, № 5
Асеев
Брик еще подметил наличие социального факта в движении прогуливающихся толп центральных улиц. Как до войны и революции ходили по определенному (не необходимостью) маршруту: Столешников, Петровка, Кузнецкий до Рождественки и обратно, так ходят и теперь. Причем социальный состав, лица, профессии гуляющих подверглись коренному видоизменению, а маршрут остался неизменен. Им, бессознательно переданным от поколения к поколению, определяется социальность не только обусловленных необходимостью или целесообразностью, но и эстетических инерций, совершенно не изученных и не обследованных.
«Новый Леф», 1927, № 5
Асеев
В одной из записок, переданных мне на лекции в Харькове, было написано: «Тов. Асеев! В ваших стихах видна большая тоска: не потому ли они так бравурны?» Записка эта завалялась каким-то образом в кармане. Как раз в разгар травли Лефа, поднятой дружной компанией Ольшевец-Полонский-Шенгели, когда нервы у меня были достаточно напряжены не столь убедительностью, сколь дружным натиском противника, лезу в карман на одном из диспутов и нахожу записку: «Тов. Асеев! В ваших стихах большая тоска и т.д.».
Так и не решил — старая ли она, харьковская, или только что подана на диспуте.
Так и не решил — старая ли она, харьковская, или только что подана на диспуте.
«Новый Леф», 1927, № 5
Асеев
Писатель Леонов, выпимши, обратился ко мне с рюмкой: «Выпьем, Асеев, за душу! Как, по вашему, душа есть? Признаете вы душу?» Отвечаю: «Отчего же, если на распашку душа, очень хорошо». Другой присутствовавший писатель, Катаев, очень был доволен каламбуром и уверял меня, что он случайно вышел.
«Новый Леф», 1927, № 5
Асеев
Каждый писатель должен знать своего читателя. Это — бесспорно. Знать круг его интересов, диапазон его представлений, иметь с ним общую культурную установку. В этом мы достигли всяческих успехов. Есенин, Леонов, Калинников, Евдокимов — разве они не знают, или не знали вкусов и требований своего читателя? Знают и знали настолько тонко, что стоит им только руку протянуть — вот они уже хлопают по плечу своего сочувственника и читателя. Они читателя и читатель их. Но это панибратское похлопывание может однажды закончиться отхлопнутыми плечами. Ведь у писателя две руки, а у читателей их сотни тысяч. Закачаешься!
«Новый Леф», 1927, № 5
Асеев
О том, что нужно создавать читателя, у нас говорить не принято. А мне кажется, мой насчитывающийся единицами читатель, вроде того шахтера Анненского рудника, что прислал нам письмо (см. № 4 «Лефа»), в тысячу раз сильнее тысячи поклонников Романова. Он — наша гордость и наша сила. Это мы его создали, вопреки всяческим цуканьям и одергиваниям опекунов старых традиций. Такого читателя не хлопнешь по плечу: он снимет вежливо похлопывающую руку и сам отдаст себе отчет в литературных спорах наших дней. И его «привет всем сотрудникам» звучит, как перекличка часовых в темноте.
«Новый Леф», 1927, № 5
Маяковский
На Пражском вокзале — Рома Якобсон. Он такой же. Немного пополнел. Работа в отделе печати пражского полпредства прибавила ему некоторую солидность и дипломатическую осмотрительность в речах.
В Праге встретился с писателями-коммунистами, с группой «Деветсил». Как я впоследствии узнал, это — не «девять сил», например, лошадиных, а имя цветка с очень цепкими и глубокими корнями. Ими издается единственный левый, и культурно и политически (как правило только левые художественные группировки Европы связаны с революцией), журнал «Ставба». Поэты, писатели, архитектора: Гора, Сайферт, Махен, Бибел, Незвал, Крейцер и др. Мне показывают в журнале 15 стихов о Ленине.
В Праге встретился с писателями-коммунистами, с группой «Деветсил». Как я впоследствии узнал, это — не «девять сил», например, лошадиных, а имя цветка с очень цепкими и глубокими корнями. Ими издается единственный левый, и культурно и политически (как правило только левые художественные группировки Европы связаны с революцией), журнал «Ставба». Поэты, писатели, архитектора: Гора, Сайферт, Махен, Бибел, Незвал, Крейцер и др. Мне показывают в журнале 15 стихов о Ленине.
«Новый Леф», 1927, № 5
Маяковский
Архитектор Крейцер говорит: «В Праге при постройке надо подавать проекты здания, сильно украшенные пустяками под старинку и орнаментированные. Без такой общепринятой эстетики не утверждают. Бетон и стекло без орнаментов и розочек отцов города не устраивает. Только потом при постройке пропускают эту наносную ерунду и дают здание новой архитектуры».
«Новый Леф», 1927, № 5
Маяковский
Утром пришел бородатый человек, дал книжку, где уже расписались и Рабиндранат Тагор и Милюков, и требовал автографа, и обязательно по славянскому вопросу как раз — пятидесятилетие балканской войны. Пришлось написать.
Не тратьте слова
на братство славян.
Братство рабочих
и никаких прочих.
Не тратьте слова
на братство славян.
Братство рабочих
и никаких прочих.
«Новый Леф», 1927, № 5
Маяковский
В Варшаве на вокзале встретил чиновник министерства иностранных дел и писатели «Блока» (левое объединение).
На другой день начались вопли газет.
— Милюкову нельзя — Маяковскому можно. Вместо Милюкова — Маяковский и т.д.
Оказывается, Милюкову, путешествующему с лекциями по Латвии, Литве, и Эстонии, в визе в Польшу отказали. Занятно.
Я попал в Варшаву в разгар политической борьбы: выборы. Список коммунистов аннулирован.
Направо от нашего полпредства — полицейский участок. Налево — клуб монархистов. К монархистам на автомобилях подъезжают пепеэсовцы. Поют и переругиваются.
Мысль о публичном выступлении пришлось оставить. Помещение было снято. Но чтение стихов могло сопровождаться столкновением комсомольцев с фашистами. Пока это не к чему.
На другой день начались вопли газет.
— Милюкову нельзя — Маяковскому можно. Вместо Милюкова — Маяковский и т.д.
Оказывается, Милюкову, путешествующему с лекциями по Латвии, Литве, и Эстонии, в визе в Польшу отказали. Занятно.
Я попал в Варшаву в разгар политической борьбы: выборы. Список коммунистов аннулирован.
Направо от нашего полпредства — полицейский участок. Налево — клуб монархистов. К монархистам на автомобилях подъезжают пепеэсовцы. Поют и переругиваются.
Мысль о публичном выступлении пришлось оставить. Помещение было снято. Но чтение стихов могло сопровождаться столкновением комсомольцев с фашистами. Пока это не к чему.
«Новый Леф», 1927, № 5
Жемчужный
Во 2-м университете вечер оканчивающих студентов. Выступают представители от партийных, профессиональных, студенческих организаций и профессуры. В речах — строительство социализма, борьба с упадочничеством, культурная революция.
Перерыв 10 минут — и:
— «Жажду лобзаний, жажду свиданий...»
Это — цыганским романсом и еврейским анекдотом напутствуют кончивших, в «художественном отделении» вечера.
Когда дело дошло до кабацкой Москвы Есенина, терпение студентов кончилось.
С эстрады:
— «Я читаю стихи проституткам...»
Из залы:
— «Довольно! Долой! Прекратите чтение!»
Напрасно растерявшийся конферансье убеждал, что «Есенин же талантливый поэт», — студенты крепко стояли на своем. Сконфуженная актриса принуждена была, не окончив чтения, ретироваться с эстрады.
Привет студентам 2-го университета!
Перерыв 10 минут — и:
— «Жажду лобзаний, жажду свиданий...»
Это — цыганским романсом и еврейским анекдотом напутствуют кончивших, в «художественном отделении» вечера.
Когда дело дошло до кабацкой Москвы Есенина, терпение студентов кончилось.
С эстрады:
— «Я читаю стихи проституткам...»
Из залы:
— «Довольно! Долой! Прекратите чтение!»
Напрасно растерявшийся конферансье убеждал, что «Есенин же талантливый поэт», — студенты крепко стояли на своем. Сконфуженная актриса принуждена была, не окончив чтения, ретироваться с эстрады.
Привет студентам 2-го университета!
«Новый Леф», 1927, № 5
Родченко
Говорят: «надоели снимки Родченко — все сверху вниз да снизу вверх».
А вот из «середины в середину» — так лет сто снимают; нужно же не только чтоб я, но и большинство снимало снизу вверх и сверху вниз.
А я буду «сбоку на бок».
А вот из «середины в середину» — так лет сто снимают; нужно же не только чтоб я, но и большинство снимало снизу вверх и сверху вниз.
А я буду «сбоку на бок».
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Смотря на горы своей живописи прошлых лет, я иногда думаю, куда это девать?
Жечь жалко, работал десять лет. Вот пустое дело, — прямо, как церковное здание.
Ни черта с ней не сделаешь!
Жечь жалко, работал десять лет. Вот пустое дело, — прямо, как церковное здание.
Ни черта с ней не сделаешь!
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
На даче в Пушкино хожу и смотрю природу; тут кустик, там дерево, здесь овраг, крапива…
Все случайно и неорганизованно, и фотографию не с чего снять, неинтересно.
Вот еще сосны ничего, длинные, голые, почти телеграфные столбы.
Да муравьи живут вроде людей... И думается, вспоминая здания Москвы, — тоже навороченные, разные, — что еще много нужно работать.
Все случайно и неорганизованно, и фотографию не с чего снять, неинтересно.
Вот еще сосны ничего, длинные, голые, почти телеграфные столбы.
Да муравьи живут вроде людей... И думается, вспоминая здания Москвы, — тоже навороченные, разные, — что еще много нужно работать.
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Трайнин на просмотре фильмы «Журналистка» говорил: «Родченко очень реален. Вот Уткин у нас с фантазией».
Вот и ставят они «быт с фантазией».
Вот и ставят они «быт с фантазией».
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Интересно заниматься экспериментальной фотографией... Но сколько в фото эстетики, — прямо сказать 90%.
Вот почему одновременно занимаюсь радио, — для дисциплины.
В радио искусства не больше 10%.
Перевести все, что от искусства, на выдумку и на тренировку, видеть новое даже в обыкновенном и привычном.
А то у нас в новом норовят увидеть старое. Трудно найти и увидеть в самом обыкновенном необыкновенное.
А в этом вся сила.
Вот почему одновременно занимаюсь радио, — для дисциплины.
В радио искусства не больше 10%.
Перевести все, что от искусства, на выдумку и на тренировку, видеть новое даже в обыкновенном и привычном.
А то у нас в новом норовят увидеть старое. Трудно найти и увидеть в самом обыкновенном необыкновенное.
А в этом вся сила.
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Толчешься у предмета, здания или у человека и думаешь, а как его снять — так, так или так?.. Все старо...
Так нас приучили, воспитывая тысячелетия на разных картинах видеть все по правилам бабушкиной композиции.
А нужно революционизировать людей видеть со всех точек и при всяком освещении.
Так нас приучили, воспитывая тысячелетия на разных картинах видеть все по правилам бабушкиной композиции.
А нужно революционизировать людей видеть со всех точек и при всяком освещении.
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Хорошо ехать в экспедицию на север или в Африку, снимать новых людей, вещи и природу.
И вот они снимают глазами заплывшими Коро и Рембрантами, музейными глазами, глазами всей истории живописи.
Тоннами вливают в кино живопись и театр.
Тоннами вливают в радио оперу и драму.
Никакой Африки... а вот здесь, у себя дома, сумей найти совершенно новое.
А уж если вы поехали в Китай, то не привозите нам коробок «Чаеуправления».
И вот они снимают глазами заплывшими Коро и Рембрантами, музейными глазами, глазами всей истории живописи.
Тоннами вливают в кино живопись и театр.
Тоннами вливают в радио оперу и драму.
Никакой Африки... а вот здесь, у себя дома, сумей найти совершенно новое.
А уж если вы поехали в Китай, то не привозите нам коробок «Чаеуправления».
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
«Советское Фото» пригласило меня сотрудничать в каждом номере.
Я пришел и спросил: «Это вы наверно книгу Моголи Наги увидели?»
«Да — говорят — вы правы. Даже напечатали раз, а потом решили:— ведь свои есть левые».
«Советскому Фото» особенно нравятся те фото, что напечатаны в Лефе. Когда приношу новые, они молчат.
«Чорт его знает, что хорошо, что плохо. Дело новое, не поймешь».
Я пришел и спросил: «Это вы наверно книгу Моголи Наги увидели?»
«Да — говорят — вы правы. Даже напечатали раз, а потом решили:— ведь свои есть левые».
«Советскому Фото» особенно нравятся те фото, что напечатаны в Лефе. Когда приношу новые, они молчат.
«Чорт его знает, что хорошо, что плохо. Дело новое, не поймешь».
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Разговариваю в Музее Революции с сотрудником Лифшицем и спрашиваю его, почему они в музее собирают рисунки, а не собирают хорошие фото революционных моментов из кино-фильм?
Нельзя, говорит он, это же инсценировки.
Подойдя к фото «Взятие Зимнего Дворца», я спросил: что за странное фото?
Он ответил — инсценировано. Я удивился, а почему же не написано, что это инсценировано?
— Да так, все считают ее документом, привыкли.
Плохая привычка!
Нельзя, говорит он, это же инсценировки.
Подойдя к фото «Взятие Зимнего Дворца», я спросил: что за странное фото?
Он ответил — инсценировано. Я удивился, а почему же не написано, что это инсценировано?
— Да так, все считают ее документом, привыкли.
Плохая привычка!
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Второй год я преподаю в мастерской ИЗО Пролеткульта... Перевел ребят с изо-работы на проектировку и моделировку мебели и оборудования клубов. Взяли заказ ВЦСПС, исполнили почти весь заказ. ВЦСПС смотрел — нравится. Моссовет часть мебели параллельно взял для себя, из провинциальных клубов берут проекты.
Авторам проектов хочется дать проекты напечатать в Леф. Пролеткульт же предлагает печатать п о с л е сдачи заказа, а то испугаются. Ведь Л е ф!
Авторам проектов хочется дать проекты напечатать в Леф. Пролеткульт же предлагает печатать п о с л е сдачи заказа, а то испугаются. Ведь Л е ф!
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Интересно было бы собрать статистические данные, сколько написано статей и заметок в наших журналах о заграничных работниках художественного труда и сколько о советских.
Насколько я наблюдал, о заграничных в десятки раз больше. И заграничных всегда хвалят, а советских почти всегда ругают. Чем это объяснить?
— А видите, писать о заграничных, это культура, во-первых (значит уважать будут писавшего на службе), а затем и спокойнее — не обвинят в теченчестве.
Наши худ-критики ведь не за совесть пишут, а за страх.
Насколько я наблюдал, о заграничных в десятки раз больше. И заграничных всегда хвалят, а советских почти всегда ругают. Чем это объяснить?
— А видите, писать о заграничных, это культура, во-первых (значит уважать будут писавшего на службе), а затем и спокойнее — не обвинят в теченчестве.
Наши худ-критики ведь не за совесть пишут, а за страх.
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
В Госиздате мне раз прямо сказали:
— Талантливый вы художник, А.М., и человек хороший, и зачем вам, говорят, нужны этот Леф и конструктивизм. Мешают они вам, и даже не тем мешают, что вы по-новому работаете, а тем, что вы носите эти названия. Другие же работают под вас, и принимают их с удовольствием, и даже прямо заказывают «под Родченко». А вас прямо боятся. Леф!..
— Талантливый вы художник, А.М., и человек хороший, и зачем вам, говорят, нужны этот Леф и конструктивизм. Мешают они вам, и даже не тем мешают, что вы по-новому работаете, а тем, что вы носите эти названия. Другие же работают под вас, и принимают их с удовольствием, и даже прямо заказывают «под Родченко». А вас прямо боятся. Леф!..
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Работая в Добролете больше года, я делал плакаты и прочее. Люди там занятые, с искусством не возятся, — дело у них новое, интересное.
Плакаты мои им нравятся. Ко мне привыкли, фамилию мою не помнят, в лицо знают.
Я тоже об искусстве с ними не говорю, словами не агитирую, работаю и работаю.
Все идет хорошо.
Вот открывается Всероссийская выставка. Добролет организует рекламные 20-минутные агит-полеты.
Зовет меня инженер Лазаревич, интеллигентный такой, в пенснэ и пинжак с золотыми пуговицами, и говорит мне:— Сделайте мне, товарищ художник, футуристический плакат о полетах.
Я искренне сделал непонимающее лицо. А он мне:— Ну как вам это объяснить, ну со сдвигом, понимаете, — конечно, только не очень.
Но я не понимал и спросил, а какие же мои плакаты? Вот на стене. Он говорит: ваши — реалистические. Тогда я все понял и сказал:
— Нет, товарищ Лазаревич, я футуристических плакатов делать не умею.
Ну и заказали какому-то правому художнику «под футуризм». После тов. Лазаревич узнал, в чем дело, — одна машинистка объяснила.
Врагом сделался.
Плакаты мои им нравятся. Ко мне привыкли, фамилию мою не помнят, в лицо знают.
Я тоже об искусстве с ними не говорю, словами не агитирую, работаю и работаю.
Все идет хорошо.
Вот открывается Всероссийская выставка. Добролет организует рекламные 20-минутные агит-полеты.
Зовет меня инженер Лазаревич, интеллигентный такой, в пенснэ и пинжак с золотыми пуговицами, и говорит мне:— Сделайте мне, товарищ художник, футуристический плакат о полетах.
Я искренне сделал непонимающее лицо. А он мне:— Ну как вам это объяснить, ну со сдвигом, понимаете, — конечно, только не очень.
Но я не понимал и спросил, а какие же мои плакаты? Вот на стене. Он говорит: ваши — реалистические. Тогда я все понял и сказал:
— Нет, товарищ Лазаревич, я футуристических плакатов делать не умею.
Ну и заказали какому-то правому художнику «под футуризм». После тов. Лазаревич узнал, в чем дело, — одна машинистка объяснила.
Врагом сделался.
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Почему это вывеска Наркомзема написана церковно-славянским шрифтом?
В церкви объявления о службе для молящихся и то русскими буквами пишут.
В церкви объявления о службе для молящихся и то русскими буквами пишут.
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Приходишь утром в учреждение, в котором всегда работаешь. Вдруг набрасываются на тебя:
— Товарищ Родченко, а мы вас ищем сегодня…
— В чем дело?
— Да завтра 1 мая. Нужно украсить клуб, постановлено ассигновать 200 рублей на декорирование клуба, мы уже лозунги приготовили, материю, пихты купили…
Пройдет месяц, опять то же.
— Завтра день Авиахима... 200 р... украсить... пихты... и т.п…
А в клубе грязные стены, а в клубе рваная мебель, а в клубе сломаны часы и т.д.
Не лучше ли было бы, дорогие товарищи, к первому мая купить «имени первого мая» дюжину стульев?
Или ко дню Авиахима выбелить стены?
— Товарищ Родченко, а мы вас ищем сегодня…
— В чем дело?
— Да завтра 1 мая. Нужно украсить клуб, постановлено ассигновать 200 рублей на декорирование клуба, мы уже лозунги приготовили, материю, пихты купили…
Пройдет месяц, опять то же.
— Завтра день Авиахима... 200 р... украсить... пихты... и т.п…
А в клубе грязные стены, а в клубе рваная мебель, а в клубе сломаны часы и т.д.
Не лучше ли было бы, дорогие товарищи, к первому мая купить «имени первого мая» дюжину стульев?
Или ко дню Авиахима выбелить стены?
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Трудно работать. Никакого достижения и закрепления дела нельзя сделать.
Учреждения разные... Придешь, возьмешь заказ от заведующего. Сделаешь, придешь сдавать, начинается лекция о новом подходе. Наконец убедишь его.
Вторую работу приносишь и думаешь — теперь будет легче. Смотришь, а вместо того заведующего сидит новый.
И опять начинай сначала. Надоедает.
Был раз такой случай.
Один заведующий, когда перешел в другое учреждение, опять меня вызвал работать. Так я за ним ходил в течение года по 10 учреждениям.
Пришлось его бросить. Уж очень разные были учреждения.
А он ничего, продолжает.
Учреждения разные... Придешь, возьмешь заказ от заведующего. Сделаешь, придешь сдавать, начинается лекция о новом подходе. Наконец убедишь его.
Вторую работу приносишь и думаешь — теперь будет легче. Смотришь, а вместо того заведующего сидит новый.
И опять начинай сначала. Надоедает.
Был раз такой случай.
Один заведующий, когда перешел в другое учреждение, опять меня вызвал работать. Так я за ним ходил в течение года по 10 учреждениям.
Пришлось его бросить. Уж очень разные были учреждения.
А он ничего, продолжает.
«Новый Леф», 1927, № 6
Родченко
Приезжающие к нам иностранцы, критики, художники часто приходят к нам, лефовцам, смотреть работы и, восторгаясь, удивляются, почему все это нигде не напечатано, не издано, не выставлено.
Мы молчим...
Потому что наши критики и заведующие худ.-делами тоже ходят, удивляясь, там, на западе, пишут и пишут оттуда в СССР.
Так много на западе интересного. И печатают, и издают, и выставляют... в СССР иностранцев.
Ведь все это лето во всех газетах и журналах каждый день пишут и пишут Коган и Луначарский, и все о западе. Уж так расписались.
А мы молчим.
Не мешало бы Рабису сказать что-нибудь.
Помолчали и довольно.
Мы молчим...
Потому что наши критики и заведующие худ.-делами тоже ходят, удивляясь, там, на западе, пишут и пишут оттуда в СССР.
Так много на западе интересного. И печатают, и издают, и выставляют... в СССР иностранцев.
Ведь все это лето во всех газетах и журналах каждый день пишут и пишут Коган и Луначарский, и все о западе. Уж так расписались.
А мы молчим.
Не мешало бы Рабису сказать что-нибудь.
Помолчали и довольно.
«Новый Леф», 1927, № 6
Маяковский
Я всегда думал, что Лубянский проезд, на котором «Новый Леф» и в котором я живу, назовут-таки в конце концов проездом Маяковского. Пока что выходит не так.
Ha-днях я получил письмо, приглашение какой-то художественной организации, с таким тоскливым адресом:
«Редакция журнала «Новый лес» В.В. Лубянскому».
Правильно, — проезд длиннее, чем писатель, да еще с короткими строчками.
Раз до сих пор не прославился, то в будущем не прославишься вовсе. Делать славу с каждым днем становится труднее.
Славу писателю делает «Вечерка».
И «Вечерка» обо мне — ни строчки.
Ha-днях я получил письмо, приглашение какой-то художественной организации, с таким тоскливым адресом:
«Редакция журнала «Новый лес» В.В. Лубянскому».
Правильно, — проезд длиннее, чем писатель, да еще с короткими строчками.
Раз до сих пор не прославился, то в будущем не прославишься вовсе. Делать славу с каждым днем становится труднее.
Славу писателю делает «Вечерка».
И «Вечерка» обо мне — ни строчки.
«Новый Леф», 1927, № 6
Маяковский
Товарищ Малахов передал через меня Асееву книгу стихов «Песни у перевоза». Когда я вижу книгу — нет Асеева, когда есть Асеев — нет книги. Пока что книга живет у меня. Жалко мне Асеева — краду у него веселые минуты, а в книге есть что почитать. Например:
Никогда, похоже, не забудешь
Черные ресницы впереди…
Впереди? Это что ж, в отличие от ресниц сзади?
Или:
И всю ночь гудящие антенны,
Припадая, бились надо мной…
Заявите в «Радиосвязь»!
Вот ночной сторож в магазине «Спортснабжение» и тот нашел лучшее применение антеннам. Сторож этот сидит в аршинном стеклянном ящике, на Кузнецком, между первой и второй входными дверьми.
На ушах радиоуши. Сейчас два часа ночи.
Должно быть, часы Вестминстерского аббатства слушает. А может, шимми из Берлина.
Никогда, похоже, не забудешь
Черные ресницы впереди…
Впереди? Это что ж, в отличие от ресниц сзади?
Или:
И всю ночь гудящие антенны,
Припадая, бились надо мной…
Заявите в «Радиосвязь»!
Вот ночной сторож в магазине «Спортснабжение» и тот нашел лучшее применение антеннам. Сторож этот сидит в аршинном стеклянном ящике, на Кузнецком, между первой и второй входными дверьми.
На ушах радиоуши. Сейчас два часа ночи.
Должно быть, часы Вестминстерского аббатства слушает. А может, шимми из Берлина.
«Новый Леф», 1927, № 6
Шкловский
Андрей Белый ходит по Тифлису, нося за спиной единственный в городе зонтик — черный. Жара градусов 30 в тени и небо без дождя. Тифлиссцы не ходят по улице после 4-х часов, а по преимуществу стоят все одетые одинаково в белое и все никуда не идут. Так они стоят, покамест светло, и так стоят, когда стемнеет. Посреди них ходит Андрей Белый в панаме, седой и с черным зонтиком.
Черные зонтики в Грузии и Аджаристане, кроме него, носят пастухи и контрабандисты. Пастухи обычно потому, что солнце очень ярко.
Но не очень стоит осматривать свет подряд, — в результате попадешь на то же самое. В горах Кавказа такие же альпийские луга, как в Альпах и на Карпатах, и черные зонтики в руках пастухов тоже есть на Карпатах. И камни на крышах домов также лежат в Аджаристане, как в Швейцарии. Это — разные места в одинаковом этаже, и мы, осматривая мир, часто попадаем в положение киноэкспедиции Госкино, которая ехала в Сибирь по параллельному кругу и удивлялась, что на Лене такая же природа, как под Москвой.
Черные зонтики в Грузии и Аджаристане, кроме него, носят пастухи и контрабандисты. Пастухи обычно потому, что солнце очень ярко.
Но не очень стоит осматривать свет подряд, — в результате попадешь на то же самое. В горах Кавказа такие же альпийские луга, как в Альпах и на Карпатах, и черные зонтики в руках пастухов тоже есть на Карпатах. И камни на крышах домов также лежат в Аджаристане, как в Швейцарии. Это — разные места в одинаковом этаже, и мы, осматривая мир, часто попадаем в положение киноэкспедиции Госкино, которая ехала в Сибирь по параллельному кругу и удивлялась, что на Лене такая же природа, как под Москвой.
«Новый Леф», 1927, № 6
Шкловский
О жанрах. Я написал в позапрошлом номере «Нового Лефа» статью о двойной душе художника. Нужно договорить в чем дело.
Я говорю, что у одного писателя не двойная душа, а он одновременно принадлежит к нескольким литературным линиям. Так, в биографии человека, происшедшего от непохожих друг на друга психически отца и матери, преобладает то материнская, то отцовская линия. Черный кролик не смешивается с белым кроликом; — не получается кролик серый, а в рядах получается то белый, то черный.
И писатель одновременно принадлежит нескольким литературным жанрам. Гоголь не пережил душевного перелома, когда начал писать переписку с другом; он в нее хотел включить старый материал «Арабесков»: — он продолжал другую линию.
Руссо говорит, что в другое время роман «Новая Элоиза» не был бы напечатан и что он жалеет, что не живет в то время.
Что касается жанров, то нужно сказать следующее, бегло и пользуясь аналогией: не может быть л ю б о г о количества литературных рядов. Как химические элементы не соединяются в любых отношениях, а только в простых и кратных; как не существует, оказывается, любых сортов ржи, а существуют известные формулы ржи, в которых при подставках получается определенный вид; как не существует любого количества нефти, а может быть только определенное количество нефти, — так существует определенное количество жанров, связанных определенной сюжетной кристаллографией.
Они осложняются тем, что осуществляются в различном материале, и ценность материала в них разная, иногда даже они переходят в отдел колодиальной химии и имеют установку чисто на материал.
Я говорю, что у одного писателя не двойная душа, а он одновременно принадлежит к нескольким литературным линиям. Так, в биографии человека, происшедшего от непохожих друг на друга психически отца и матери, преобладает то материнская, то отцовская линия. Черный кролик не смешивается с белым кроликом; — не получается кролик серый, а в рядах получается то белый, то черный.
И писатель одновременно принадлежит нескольким литературным жанрам. Гоголь не пережил душевного перелома, когда начал писать переписку с другом; он в нее хотел включить старый материал «Арабесков»: — он продолжал другую линию.
Руссо говорит, что в другое время роман «Новая Элоиза» не был бы напечатан и что он жалеет, что не живет в то время.
Что касается жанров, то нужно сказать следующее, бегло и пользуясь аналогией: не может быть л ю б о г о количества литературных рядов. Как химические элементы не соединяются в любых отношениях, а только в простых и кратных; как не существует, оказывается, любых сортов ржи, а существуют известные формулы ржи, в которых при подставках получается определенный вид; как не существует любого количества нефти, а может быть только определенное количество нефти, — так существует определенное количество жанров, связанных определенной сюжетной кристаллографией.
Они осложняются тем, что осуществляются в различном материале, и ценность материала в них разная, иногда даже они переходят в отдел колодиальной химии и имеют установку чисто на материал.
«Новый Леф», 1927, № 6
Перцов
К редактору одного кинематографического журнала поступила статья на тему о технике кино. В этой статье, между прочим, было следующее утверждение: «Основа техники кино, это монтаж».
Вся статья была очень неопределенной и понравилась редактору, но это утверждение смутило его.
«А вдруг это не так?» — с тревогой спросил редактор автора статьи.
И вычеркнул из нее это единственное определенное место.
Вся статья была очень неопределенной и понравилась редактору, но это утверждение смутило его.
«А вдруг это не так?» — с тревогой спросил редактор автора статьи.
И вычеркнул из нее это единственное определенное место.
«Новый Леф», 1928, № 2
Перцов
Лежнев и Полонский выпустили книги-сборники своих статей. И в той и в другой первыми идут статьи против Лефа. Полемика с Лефом — это товар, ею выгодно начинать книгу. По этому поводу приведу еще такой факт. Недавно встретил Гастева. Он, как известно, уже давно из писателей перешел в читатели. Говорит: «Полонский на вас имя делает. Теперь его знают — тот, который против Лефа».
«Новый Леф», 1928, № 2
Перцов
На собрании писателей, созванном редактором одного профсоюзного журнала, были розданы темы. Одному писателю досталась тема о раскрепощении женщины.
Получив тему, писатель не имел ни единой мысли. Но придя домой, немедленно стал печатать на машинке рассказ на тему о раскрепощении женщины.
Писатель был пролетарский, хотел хорошо выполнить заказ профсоюзного журнала.
Жил он в одной комнате. Жена его, из крестьянок, тут же возилась с детишками, что-то стряпала.
Напечатав страницу рассказа на тему о раскрепощении женщины, писатель сказал:
— Оля! Послушай, я тебе сейчас прочту, что ты на это скажешь?
Оля оставила кастрюли, горшки, детишек и прочие орудия закрепощения и стала слушать.
Ей очень не понравилось то, что написал муж, она все это приняла на свой счет и устроила ему форменную сцену. Писатель притих, бросил машинку и срочно стенографировал.
Он подавал только реплики, чтобы раззадорить супругу.
Плита стала дымить, и Оля вернулась от разговоров о закрепощении к практике.
Стенографическая запись была немедленно ввергнута в пишущую машинку. Изображенная печатными буквами, она стала выглядеть, как художественная литература.
Размер рассказа должен был не превышать четверти печатного листа, оставалось уже немного.
Рассказ не был принят. Редактор дал понять автору, что его талант очень неровный. Кроме того, автор не сумел так распределить силы своего таланта, чтобы положительные персонажи были выразительнее отрицательных.
— Вот у вас та женщина, которая ругает новые порядки, против жилтоварищества выступает, говорит, что хозяин лучше за плитами смотрел — вон она, действительно, живая, говорит от себя, она убедительная, а эта комсомолка, которая в нарпите столуется, — это ведь, дорогой, схема. Сейчас читатель подрос, он не поверит, женщина перетянет. Подумайте, переделайте.
Писателю ничего не оставалось, как итти в нарпит.
Получив тему, писатель не имел ни единой мысли. Но придя домой, немедленно стал печатать на машинке рассказ на тему о раскрепощении женщины.
Писатель был пролетарский, хотел хорошо выполнить заказ профсоюзного журнала.
Жил он в одной комнате. Жена его, из крестьянок, тут же возилась с детишками, что-то стряпала.
Напечатав страницу рассказа на тему о раскрепощении женщины, писатель сказал:
— Оля! Послушай, я тебе сейчас прочту, что ты на это скажешь?
Оля оставила кастрюли, горшки, детишек и прочие орудия закрепощения и стала слушать.
Ей очень не понравилось то, что написал муж, она все это приняла на свой счет и устроила ему форменную сцену. Писатель притих, бросил машинку и срочно стенографировал.
Он подавал только реплики, чтобы раззадорить супругу.
Плита стала дымить, и Оля вернулась от разговоров о закрепощении к практике.
Стенографическая запись была немедленно ввергнута в пишущую машинку. Изображенная печатными буквами, она стала выглядеть, как художественная литература.
Размер рассказа должен был не превышать четверти печатного листа, оставалось уже немного.
Рассказ не был принят. Редактор дал понять автору, что его талант очень неровный. Кроме того, автор не сумел так распределить силы своего таланта, чтобы положительные персонажи были выразительнее отрицательных.
— Вот у вас та женщина, которая ругает новые порядки, против жилтоварищества выступает, говорит, что хозяин лучше за плитами смотрел — вон она, действительно, живая, говорит от себя, она убедительная, а эта комсомолка, которая в нарпите столуется, — это ведь, дорогой, схема. Сейчас читатель подрос, он не поверит, женщина перетянет. Подумайте, переделайте.
Писателю ничего не оставалось, как итти в нарпит.
«Новый Леф», 1928, № 2
Незнамов
Когда в Москве происходила всесоюзная полиграфическая выставка, ей обрадовался даже Я. Тугендхольд.
Он был приятно удивлен, что расцветка выставочного помещения сделана «в желто-серо-красной гамме». Особенно же его поразил самый вход на выставку: «конструктивный и слегка японский».
Выставка, в основном, выросла из полиграфической продукции и демонстрировала образцы ротационной печати, практику меццо-тинто и офсета, технические приемы литографии и цинкографии, картографические работы.
Но — кто о чем, а Тугендхольд о своем. Его больше всего обрадовало на выставке обилие рисунков и гравюр, и он отметил: «Крепнет и ширится рать наших графиков».
Хотя основной график выставки: график технического подъема полиграфии не остановил его внимания.
И командармом, пройдя вдоль книжных экспонатов, Тугендхольд, удалился с выставки к ахррам и остам: такой терпимый, многосторонний и чуть-чуть передовой.
«Конструктивный и слегка японский».
Он был приятно удивлен, что расцветка выставочного помещения сделана «в желто-серо-красной гамме». Особенно же его поразил самый вход на выставку: «конструктивный и слегка японский».
Выставка, в основном, выросла из полиграфической продукции и демонстрировала образцы ротационной печати, практику меццо-тинто и офсета, технические приемы литографии и цинкографии, картографические работы.
Но — кто о чем, а Тугендхольд о своем. Его больше всего обрадовало на выставке обилие рисунков и гравюр, и он отметил: «Крепнет и ширится рать наших графиков».
Хотя основной график выставки: график технического подъема полиграфии не остановил его внимания.
И командармом, пройдя вдоль книжных экспонатов, Тугендхольд, удалился с выставки к ахррам и остам: такой терпимый, многосторонний и чуть-чуть передовой.
«Конструктивный и слегка японский».
«Новый Леф», 1928, № 2
Шкловский
Что же я считаю важным в своей не теоретической, а литературной работе? Важно чувство разобщенности форм и свободное с ними обращение. В типографиях различают рабочих, имеющих и не имеющих руку; имеющий руку при верстке может переставить кусок. Представление слитности литературного произведения у меня заменено ощущением ценности отдельного куска. Место сливания кусков мне интереснее их противоречия. И, так как это, вероятно, нужно для сегодняшнего момента развития литературы, то эта особенность лично моя не вытеснена из литературы, а мною в нее внесена.
«Новый Леф», 1928, № 3
Кассиль
Я беру на себя смелость утверждать, что «есенинщины» как таковой вообще не существовало. Существовали в известной части молодежи некоторые настроения, именуемые «упадочными». Настроения эти ничего общего с есенинскими не имели. Но грустно-безнадежная напевность стихов Есенина помогла «упадочникам» оформить свои томления. Упадочники взяли на свое знамя портрет Есенина. Не тематика есенинская, а форма его печали подошла к упадочным настроениям и «упадочники» стали выправлять почерк своего обывательского нытья по транспаранту больных, хотя и не плохо сделанных есенинских строк.
А если бы Есенин писал прозой, ничего бы не было.
А если бы Есенин писал прозой, ничего бы не было.
«Новый Леф», 1928, № 3
Незнамов
Пролетарский поэт Иван Доронин написал стихи, в которых усомнился в компетентности лиц, принимающих сейчас в редакциях толстых и тонких журналов поэтическую продукцию.
Он спросил меня, может ли такое стихотворение пойти в «Новом лефе».
Стихотворение проигрывало оттого, что было длинным, очень общим, написанным в порядке обид, а главное, никому не адресованным. Это была вещь о редакциях вообще, редакциях, не имевших никаких типических и злободневных черт.
Я сказал Доронину об этом, попутно указав на действительно сегодняшние стихи этого рода В. Маяковского и Н. Асеева в № 5 «Нового лефа» за 1927 г., имевшие совершенно определенный адрес.
Недоумению Доронина не было конца.
— Ну, уж это совершенно лишнее, — развел он руками, — называть имена или фамилии. Вот то-то и хорошо, что мои стихи не злободневны, я их и писал с таким расчетом, чтоб они не были злободневными. А то как же их будут читать в будущем? Надо так писать, чтобы во всякое время пригодилось. Тут типы нужны, а не фамилии...
Так и разошлись: Доронин в одну сторону, а я в другую — противоположную типам.
Он спросил меня, может ли такое стихотворение пойти в «Новом лефе».
Стихотворение проигрывало оттого, что было длинным, очень общим, написанным в порядке обид, а главное, никому не адресованным. Это была вещь о редакциях вообще, редакциях, не имевших никаких типических и злободневных черт.
Я сказал Доронину об этом, попутно указав на действительно сегодняшние стихи этого рода В. Маяковского и Н. Асеева в № 5 «Нового лефа» за 1927 г., имевшие совершенно определенный адрес.
Недоумению Доронина не было конца.
— Ну, уж это совершенно лишнее, — развел он руками, — называть имена или фамилии. Вот то-то и хорошо, что мои стихи не злободневны, я их и писал с таким расчетом, чтоб они не были злободневными. А то как же их будут читать в будущем? Надо так писать, чтобы во всякое время пригодилось. Тут типы нужны, а не фамилии...
Так и разошлись: Доронин в одну сторону, а я в другую — противоположную типам.
«Новый Леф», 1928, № 4
Третьяков
Искусство быть редактором
Один из редакторов одного из крупнейших журналов в хозрасчетном припадке возмечтал:
— Вот если бы составить номер из материалов, оплаченных, но за негодностью не принятых.
Мамаши, созерцая мочащегося младенца, говорят:
— Будешь пожарным.
Не суждено ли упомянутому нами редактору в следующем своем хозяйственном воплощении стать по крайней мере директором треста «утиль-отброс»? Все-таки преемственность и опыт.
Один из редакторов одного из крупнейших журналов в хозрасчетном припадке возмечтал:
— Вот если бы составить номер из материалов, оплаченных, но за негодностью не принятых.
Мамаши, созерцая мочащегося младенца, говорят:
— Будешь пожарным.
Не суждено ли упомянутому нами редактору в следующем своем хозяйственном воплощении стать по крайней мере директором треста «утиль-отброс»? Все-таки преемственность и опыт.
«Новый Леф», 1928, № 7
Третьяков
Цена идеологии
В 1925 г., когда еще «Броненосец Потемкин» лежал во чреве «1905 года», приходилось бывать мне на заседаниях худбюро покойной памяти Госкино.
На одном из заседаний был оглашен проект оплаты поступающих сценариев (нужна была твердая расценка, ибо торговля без таксы превращала худбюро в лавочку с фантастическими результатами торга).
Вот этот проект:
За оригинальный сценарий, вполне выдержанный и художественно и идеологически — 1000 р.
За оригинальный сценарий, выдержанный художественно, но идеологически не выдержанный — 750 р.
За оригинальный сценарий, который идеологичен, но не выдержан художественно — 500 р.
За сценарий, построенный по литературному произведению — 300 р.
И, наконец, за сценарий, не выдержанный ни художественно, ни идеологически — 150 р.
Я предложил взять подряд на 50 сценариев последнего типа.
К чести собрания, оно замялось, и автор бумажки похоронил ее в своих карманах.
Только тут узнал я цену идеологии: минус 250 рублей.
Или в переводе на язык конкретного — 250 рублей убытку.
В 1925 г., когда еще «Броненосец Потемкин» лежал во чреве «1905 года», приходилось бывать мне на заседаниях худбюро покойной памяти Госкино.
На одном из заседаний был оглашен проект оплаты поступающих сценариев (нужна была твердая расценка, ибо торговля без таксы превращала худбюро в лавочку с фантастическими результатами торга).
Вот этот проект:
За оригинальный сценарий, вполне выдержанный и художественно и идеологически — 1000 р.
За оригинальный сценарий, выдержанный художественно, но идеологически не выдержанный — 750 р.
За оригинальный сценарий, который идеологичен, но не выдержан художественно — 500 р.
За сценарий, построенный по литературному произведению — 300 р.
И, наконец, за сценарий, не выдержанный ни художественно, ни идеологически — 150 р.
Я предложил взять подряд на 50 сценариев последнего типа.
К чести собрания, оно замялось, и автор бумажки похоронил ее в своих карманах.
Только тут узнал я цену идеологии: минус 250 рублей.
Или в переводе на язык конкретного — 250 рублей убытку.
«Новый Леф», 1928, № 7
Выставка «ЛЕФ. Опыт создания искусства дня» проходит в Библиотеке им. Н.А. Некрасова
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 (м. «Бауманская»)
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 (м. «Бауманская»)